«Конец утопии» Александра Морозова как попытка апологии реализма
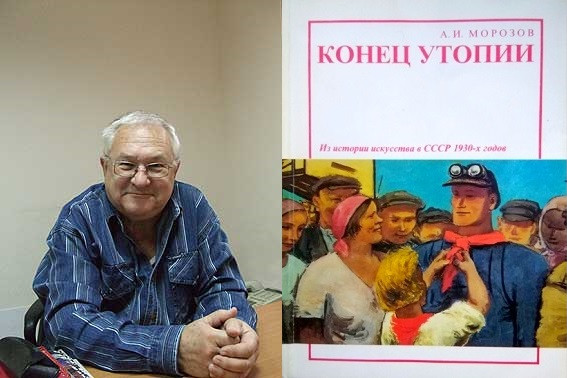
Корпус книг, описывающих процессы, имевшие место в Советской культуре и искусстве 1920-1930-х годов обширен. Однако большинство из них имеют тенденцию к ревизии и поиску виноватых. (Если мы вправе говорить о ревизии, проходившей в 1980-х годах как о ревизии. Концепции, изложенные в текстах Игоря Голомштока и Бориса Гройса, которых мы коснемся чуть ниже, уже вошли в канон искусствознания, и уже их, в свою очередь, пора подвергать ревизии). Книга Александра Морозова скорее защищает и оправдывает художников из различных лагерей.
Виноватые в культурной катастрофе 1930-х годов назначаются исходя из того, кого автор считает невиновным.
1) Советская академическая критика… нужно ли касаться этого вопроса? Советская академическая критика старается максимально затушевать «Великий перелом» в советском искусстве, а пострадавших в его ходе художников или обойти вниманием, или, если это совсем невозможно, объявить жертвами перегибов на местах и волюнтаризма. Только Михаил Лифшиц позволял себе поругивать, нет, не русский авангард, но включающий его европейский модернизм, за что до сих пор получает плевки на могилу.
2) Исследователи авангарда (обычно они находятся на позициях модернистской формалистской или социальной теории искусства), такие как Андрей Сарабьянов и многие спикеры Еврейского музея и центра толерантности, которых мне доводилось слушать, естественно, считают авангард невинно пострадавшим. Здесь уместно вспомнить нарратив Климента Гринберга о том, как поддержанный советской властью китч победил авангард. Критики, находящиеся на модернистских позициях, не могут считать ценным искусство фигуративистов: Михаила Нестерова, Павла Корина, Кузьмы Петрова-Водкина. Даже Александра Дейнеку и, особенно, Юрия Пименова они с радостью записывают в соцреалисты и, тем самым, обесценивают. Сдержанная позиция Владимира Паперного также говорит о полярной противоположности искусства 1920-х и 1930-х годов, однако смену их он видит в неявных подводных течениях исторического развития психологии и культуры русского народа.
3) Постмодернисты, такие как Борис Гройс, повторяют критику довоенного модернистского искусства, носителя культа прогресса, приведшего, с их точки зрения, к катастрофе Второй мировой. При этом они склонны объединить авангард и соцреализм, признавая последний международным явлением, точкой манифестации модернизма. Симптоматично, что Борис Гройс пишет для англоязычной аудитории, следовательно, своим читателем он видит европейского или американского интеллектуала, уже включенного в дискурс Маркузе-Адорно. Постмодернисты выявляют агрессивные и тоталитаристские моменты внутри русского авангарда, и видит Бог, авангарду есть что предложить по этому поводу.
Игорь Голомшток, мне кажется, балансирует между второй и третьей группой. С одной стороны, он не отрицает наличие агрессивных трендов в самом авангарде и интернациональность неоклассики, с другой — особо выделяет схожесть практики борьбы с авангардом в тоталитарных странах. И, в силу того, что ярлык «тоталитарный» имеет для европейского или американского интеллектуала негативный оттенок («Тоталитарное искусство» также было написано на английском языке), искусство 1920-х годов во всем мире оказывается жертвой мирового же отката к неоклассике, приобретшего в Италии, Третьей Империи и Советском Союзе наиболее агрессивное выражение.
Не пора ли перерасти исторические травмы и написать новый вариант истории советского искусства? Надеюсь, мое поколение сможет. И первым кирпичиком в этой объективной истории пусть станет книга «Конец утопии» Александра Морозова.

1. Тоталитаризм и партийный диктат был, но причины его были, по большей части, бюрократическими. Партийные функционалисты не знали каким должно быть искусство социалистического реализма и проводили отбор из того, что попадало на выставки. Теория, исходя из которой одних разоблачали как «формалистов», а других возвышали, подверстывалась постфактум. Не уверен, что Александр Морозов писал так прямо, но именно такое ощущение у меня сложилось по прочтении.
Можно сказать, что искусство социального реализма существовало не как корпус произведений, дошедших и не дошедших до нас, но как система отбора этих произведений. Социальный реализм — это прежде всего среда, в которой художники были вынуждены существовать и работать, это иерархическая система союзов, критерии выделения средств и участия в выставках, конкуренция между художниками и их карьерные амбиции, наконец, но не в последнюю очередь, критика. Главным же органом критики искусства оказывается передовица газеты «Правда».
2. Не всякий реализм суть социалистический реализм, даже если мы видим на картине мертростроевку, отсылающую нас к классической Венере. В общем, Александр Морозов не отрицает, что интернациональная неоклассика — плод развития интернационального же модернизма. Однако он объединяет русский авангард и реалистическое искусство 1930-х годов не для того, чтобы возложить на них вину за тоталитарные режимы, но, с целью показать их подверженность влиянию утопического мифа «светлого пути». Эта мифологема подспудно существовала еще в среде дореволюционной интеллигенции, ее выразителями были футуристы, приветствовавшие Революцию, и конструктивисты, призывавшие художников к станку. Первые пятилетки также несли в себе положительный заряд надежды на скорое наступление светлого будущего для всех. Именно радостью предвкушения всеобщего счастья для всех наполнены полотна Александра Самохвалова, Александра Дейнеки, Юрия Пименова, но также и Александра Герасимова и Аркадия Пластова.

Неоспорим факт, что многие из этих мечтателей, большинство из которых были преданными коммунистами, оттеснялись на периферию, а порою, подвергались гонениям. Здесь Александр Морозов сближается с наблюдениями, изложенными Владимиром Паперным: новая иерархическая система позволяла иметь гражданину столько личности, сколько ему было положено исходя из социального статуса. Лицом могут обладать только «лучшие люди»: Ленин, Сталин, Ворошилов, ряд приближенных к ним героев революции и труда, масса же должна была оставаться безликой. Именно этот посыл выразили наиболее почитаемые системой социалистического реализма художники: Александр Герасимов, Исаак Бродский и другие.
3. Неверно представление о том, что художники или восхваляли партию, или молчали. Многих художников, таких как Михаил Нестеров или Павел Корин, режим вынужден был терпеть, несмотря на их очевидную беспартийность. Павел Корин даже умудрялся работать одновременно над панно для Дворца съездов и «Реквиемом». Находились художники, вопреки известному афоризму Ханны Арендт работали для себя, «в стол». Для многих из них, в том числе для самого Александра Герасимова и ленинградских «академиков», отдушиной стали лирические пейзажи, не подразумевавшие публичного экспонирования.

4. Авангард не был «остановлен на бегу», а сошел не нет сам, вероятно, вследствие того же разочарования в социалистической утопии. Александр Морозов проводит отзыв Абрама Эфроса и заключает, что художники-модернисты отошли от формальных экспериментов, а многие, как Казимир Малевич, пришли к реалистической неоклассике.
Было ли это, действительно, следствием разочарования? Или виной всему было общее творческое истощение, или, возможно, страх? Полагаю, этот вопрос требует отдельного изучения в каждом индивидуальном случае. Например, Павел Филонов до самой смерти в 1941 году продолжал свои формальные эксперименты, его работы были запрещены к экспонированию, но и прямым репрессиям он, в отличии от пламенного коммуниста Густава Клуциса, не подвергался.
Подводя итог хочу сказать, что книга «Конец утопии» может быть рекомендована искусствоведам, начинающим заниматься историей советского искусства, как источник альтернативной точки зрения. Книга интересна также тем, что автор анализирует сами произведения, а не то, кто и какими словами ругал несчастных жертв кровавого сталинского режима. Очень жаль, что она так и не была оцифрована, хорошо бы ее переиздали.
