Мария Бикбулатова. Почти всё в мире — сад
Мария Бикбулатова — волжанка, садовница, философиня, переводчица с английского и французского. Родилась и выросла в Самаре, где закончила Академию Наяновой. Сейчас живет в
Выпущенные/выращенные созвездия слов, отобранные с полей словаря языков английского и русского, засушенные, исступлено свисающие с гвоздиков метафизического пространства, рассыпающегося на холмы Светлограда, Самары, Петербурга, Петяярви, лесные опушки, расставленные в стороны листья деревьев в гигантских садах, поросших мхом и грибами где-то на границе невозможной для утренней нежности привязанности и непереносимой до кипящей ненависти непонятности родного языка, который /не /осуществим/ не /высказителен как исповедь бабушки в пустоту степи, перечисляющей «свои имена», ее речь — это называние себя — заявление о своем существовании в непроходимых снегах, среди «пекла страны», гниющие слова русского языка, которые вызывают чувство стыда, кириллица, ставящая рамки, в отличие от «неродного» английского, в котором есть возможность к спасению, бегству, хотя, возможно, это только выдуманные слова-ярлыки, рассортированные по строчкам определениями, но убежище находится в человеке/человечнице, которые видят друг друга и «знают», что «здесь» есть только вот в этой полосе между Испанией и океаном.
Анастасия Карпета
Стихи Маши Бикбулатовой затягивают в паутину легкости жизни. Здесь нет ничего лишнего: ни психологии, ни драмы, ни упивающегося своим страданием нарциссического эго. Только живые, реальные вещи, которыми захвачено письмо. Каждое стихотворение это прогулка или путешествие — по степи, по лесу, по саду, по груди возлюбленного, распускающего светлые локоны. Появление растений и животных в этих причудливых путешествиях всегда неожиданно, но в то же время необъяснимо кстати, совсем как в красочных снах изумительной маленькой колдуньи: серая полынь, пляшущая на песке; мох и грибница, которыми прорастает, подобно старому дереву, мое упавшее в лесу тело; псы, купающиеся в торфяном озере. Особенно хотелось бы отметить цветы, потому что здесь они — личности, несущие тайные послания, перевод которых на человеческий язык был бы избыточным. Мята скромная, а гладиолус яркий, гламурный, как наша с Машей помада Шанель, но только у него свое бытие, которое освещает кадр незабываемой прохладной вспышкой. В этих чувственных прогулках мы постигаем собственную историю и политику такими, какие они есть, по ту сторону нагромождения фактов и комментариев: бабушка, например, рассказывает, как все было. Язык вроде бы и слушается авторку, и сам себя подгоняет к ее пестрому дышащему миру — но в то же время и свободно ликует, как молодой лабрадор.
Оксана Тимофеева

Белое ничто степи
По белому ничего степи, немного щетинистому от лесопосадок,
Из одной деревни посреди ничего к другой, намного-намного дальше.
Бабушка, назови
Мне все свои имена.
Девичья фамилия Борзова, это отчима, а папа был Модестов.
Они все были крестьяне, конечно, всегда тут жили.
Блины не получились сегодня, мука что ли плохая,
Отец умер в двадцать шесть, в голод,
Я только помню: мне три, я сломала руку,
И он везет меня на лошади ко врачу.
Сколько я должна за лекарства? Эти таблетки
Без вставной челюсти не разжевать, но я приноровилась,
Если ночью нужно, то вот толку в ступке.
Мать отца с тетей уехали с Туркменистан, там было не так тяжело,
Голода не было, у них мазанка была вот прямо как у меня,
В землетрясение балка обвалилась и убила ее,
А у тети никогда не было детей.
Видишь, напротив отгрохали два больших дома?
Этот сел на 8 лет: украл стадо овец и убил сторожа,
А второй так и разъезжает на своей машине, и все ему нипочем,
Задавил семью: мою сестру милосердия с мужем и младшеньким,
У нее рука не срастается, а мальчик никогда не будет ходить,
Поддатый поехал в центр за хлебом, и откупился конечно.
А Борзов с двумя сыновьями погиб на войне.
Это сводные братья от первого брака.
Еще была Марфа, уже точно не помню, тоже умерла.
Ты сходи возьми сверло, нужно дырок наделать в крышках
На бочках с картошкой, чтоб не сопрела.
Только Сережка не даст. Наверное, он на меня в обиде,
Давеча заходил, говорит: «Дай тыщу, надо магазину вернуть за водку,
И еще на одну сверху». Я сказала, что у меня нету. Так что иди к Кольке.
А с детьми ты не торопись, знаешь, как я с вами намучилась?
Лида мне маму маленькую привезет из Уфы, а я ведь работаю.
Помню, чихала она, я ей в колготки
Горчицы насыпала, а она нассала, ей жжется,
Она орет, а я не пойму, почему.
И деду она всю голову говешками измазала,
Он пришел после смены, а кроватка ее у него в изголовье,
Пришел и уснул, она встала и всего его измазала.
Ой, не надо, Маша. Как щас помню: выхожу в Уфе на вокзале,
В одной руке узел, в другой Наташа в пеленках,
Выхожу, а никто меня не встречает, нету его,
А Лида на работе. Господи!
А Чапаевку прудят до сих пор, конечно.
Да куда ты пойдешь по снегу? Во
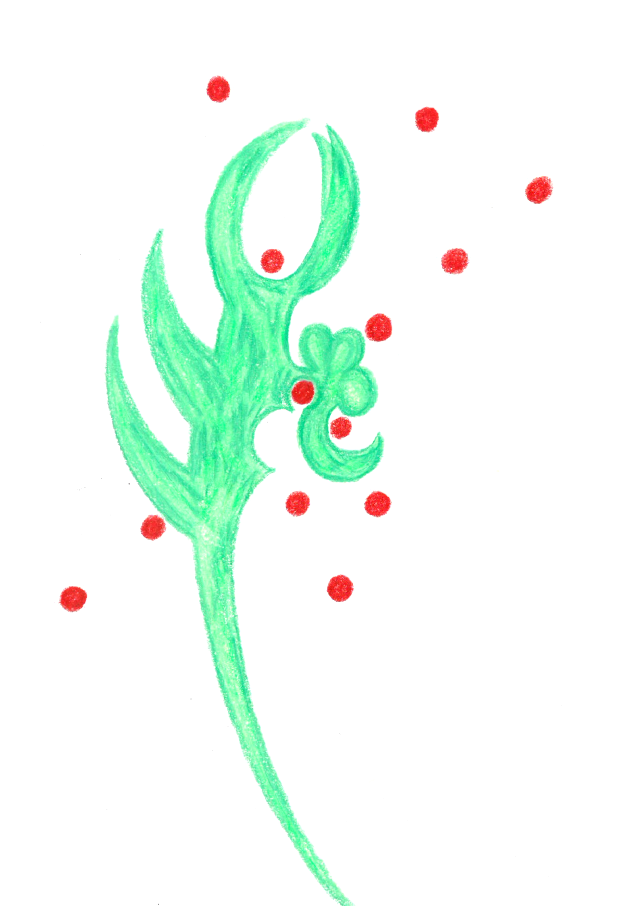
***
Имперско-рабский русский язык,
жирный русский, грузный,
расползающийся за грани различий,
прогрессирующий раковый русский,
таранящий всё кормой своей, русский,
проглатываешь и меня, русский,
я хочу вспороть твое брюхо изнутри,
смердящая рыба ты, русский.
Выпотрошить из тебя
все паникадила и рубли,
рублёвый русский, грошевый русский,
и всё, что ты покрываешь.
Тройное дно пробить твое, русский,
чтобы слова перестали быть мразными,
чтобы когда-нибудь стало возможно
не стыдясь сказать «мы» по-русски,
произнести «вместе» по-русски.
***
Когда нет никакого вовне,
мы все внутри.
Внутри кириллицы как в тюрьме.
Нельзя убежать, только выкупиться.
И тогда стоять за забором и слушать
о чём диалоги в ограниченном дышлом месте.
Что ты говоришь мне? Когда
ты говоришь прямо, ты всё время
косишь.
Сказать можно только наискось,
иначе твой порядок слов, твой
синтаксис
рукой металлической вырвет
мне горло,
мои междометия проткнут
тебе глаз.
Мы будем рвать друг друга
как рвут только подруги,
только семья.
Семь семериц когтистых женщин
раскроят взаимно кожи,
из кож сестёр сошью вражеский образ,
хлестать его буду кнутом языка.
Ты простишь моим мутным мячикам глаз их лукавость,
Выкорчеванный язык мне обратно положишь в рот,
Волосы нежно погладишь на скальпе наскоро снятом.
Мы, миллениалы
Вчера пили кофе со Стешком,
Потом пошли с Настей на концерт.
Все эти статьи в интернете про поколение Y и Z.
Пока мы, игриковцы, старались быть нашим родителям хорошими родителями,
мы устарели.
Пока мы долго решали,
что наконец можно отказать, не слушать, поспать,
мы устарели.
Пока решали, кто мы,
мы устарели.
Пока спасали друзей и подруг,
мы устарели.
Пока работали на трёх работах,
мы устарели.
С нашим рок-н-роллом,
устарели,
с нашим панэротизмом,
устарели,
с нашим девяностническим аналоговым детством,
устарели.
С нашими травмами,
устарели.
С нашими тремя языками, которые учим всю жизнь и всё равно не можем ни черта объяснить никому, устарели.
Аналитик спрашивает:
«Маша, сколько Вам лет?»
Говорю: «Тридцать будет в декабре».
Она отвечает: «Мне кажется, Вы уже можете себе позволить…»
Я могу позволить себе не копать картошку словами из трёх иностранных,
я могу позволить себе не забивать словами гвозди,
я могу позволить себе не соблазнять всех вас, чтобы чувствовать, что я существую,
я могу позволить себе вязкий бельгийский рок,
я могу позволить себе устареть,
как устаревают носители:
дискеты, кассеты, пластинки.
У поколения Z нет всех этих заскоков,
им не надо позволять себе наконец к тридцати подростковость и детство,
чтобы повзрослеть по-настоящему.
They generally cope better than millenials.
Ну и слава Дионису.
Только вот одного я не понимаю:
Я учу детей английскому больше десяти лет,
Но что, чёрт возьми, больше нет на земле алфавитов?
Что будет за Z и когда вообще было A?
Нельзя перейти на другой, или когда мы допоем песенку про алфавит, то разойдёмся по домам?
Это миллениалы Y, они были troubled like fuck, они всё время пытались себе что-то позволить.

Светлоград ранней весной
Заторы на путях финансовых потоков разного происхождения
создают условия для самосохранения настоящего.
Забвение империи производит слепые пятна в её обзоре,
в них эти плавные холмы пребывают в своей охровости.
Полотно сухой травы кое-где продрано древним ракушечником,
пара солёных озёр — это древнее море забыло себя лоскут.
Советские минеральные курорты бодрятся, облицовываются новизной.
Для нас, приезжих, всё здесь щедро на воздух, пространство и пустоту.
В большом городе такого не достать за деньги,
здесь — совсем бесплатно.
Но жители здешних мест устают якорить за пустое флаг человеческого.
В ложбине между холмами украинская улица из домиков в кафеле
Как в Португалии. Где я вообще нахожусь?
Цветы мяты
Она сказала собери
Цвет мяты
И принеси в кабинет.
Я говорю: но ведь у мяты
урожай — листья,
их собирают круглый год,
а цветы бесполезны.
Недобукет
мятных соцветий,
как выбросы истерической речи.
Лес Петяярви
Здесь не страшно падать.
Плотная шуба зелёных мхов обнимет твое сломленное ветром тело,
утянет в мягкий еловый опад, мицелий оплетёт паутиной и сваляет из твоих сахаров гриб,
а потом в трухе твоей пустит корни черничный куст и брусника,
дары возвращая уже не дарящим.
Уже через год твои нижние губы запахнут хорошо перепревшей листвой,
и уклончивый хвощ будет их щекотать когда ветер вдруг южен.
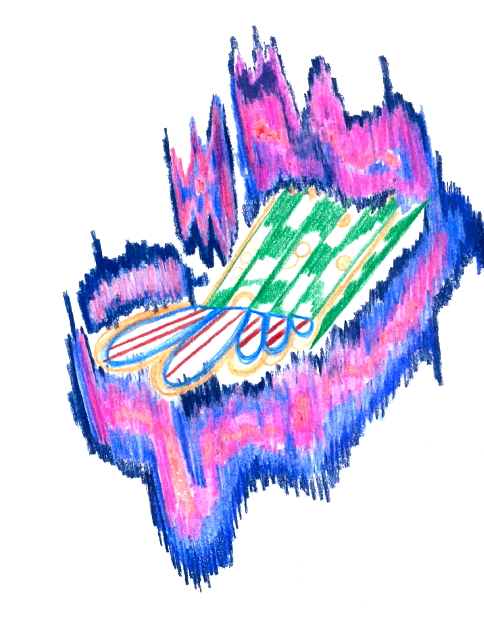
Август
Август лежит раздавленной солнечной сливой на бурой траве.
Гладиолусы, красные, бархатистые как помада шанель, смотрят на меня уезжающую, как неслучившийся роман, с укоризной.
Солнце, с утра обильное, пыльное немного.
Почти всё уже немножко поздно сейчас и почти всё в мире — сад.
Главный цвет сада — чёрный, цвет перегноя, чистой смерти, чистой энергии.
Но я знала столько садов с чернозёмом, уродливых, как пробка на въезде в город.
И знаю сады на камнях, изобильные, как трещина рая.
Весь вопрос: сколько сил ты вкопаешь под каждый розовый куст, под каждое хвойное существо,
нет удобрения лучше пота, капающего со лба копающего.
Неряшливые большие сады, одержимые своим гигантизмом,
и крошечные сады крошечных бабушек, с лужайкой, тропинкой, пионом, совсем без забора. Они пьют чай на веранде размером с чайное блюдце, не закрываясь от дачной дороги,
не пряча ценный металл и внуков.
Все мы одинаковые, садовницы и садовники: поверхность срыть
и ковырять глубины глину,
не то что ковыль, который, за горсть песка уцепившись,
танцует на ветренном рейве с такими как он.
Рано утром член твой, такой спелый, такой налитой, в меня упирается, в руку просится, внутрь просится, погреться пусти. Когда просыпаюсь от этой встречи, и руки твои, как горячие вьюны утягивают глубже в тепло постели, то не могу никак вспомнить, чем же вчерашний меня так расстроил вечер.
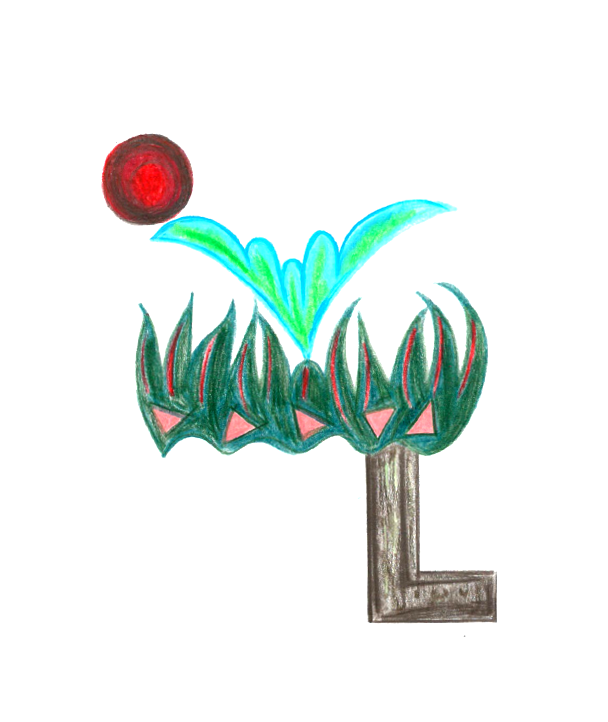
***
Ты так прекрасен, мой возлюбленный, что мне нравится
Находить на тебе шрамы и прыщики, чтобы удостовериться, что ты настоящий.
Почему-то, когда ты одет, это не бросается в глаза,
Но, когда ты раздеваешься,
У меня каждый раз немного перехватывает дыхание
От удивления, что какое-то тело может быть столь ослепительно
По-античному гармоничным. Ты распускаешь хвост, и льняные волны волос касаются плеч и широкой спины, сужающейся к пояснице. Когда ты спишь, ты всегда натягиваешь ступни как на ренессансных картинах, от вида твоих ягодиц возбудятся даже всегда гетеросексуальные мужчины, даже женщины, никогда не желавшие ничего ничем пенетрировать. Когда мы занимаемся сексом, и ты сверху, я рассматриваю твою грудь, слегка выпуклую, красивые упругие соски. Скулы и
Мы тут все вместе в большом общем пространстве, разгружаем вагоны дней, каждый своих, но по соседству, мы видим, мы можем представить тяжести, которые носят другие, и мы сочувствуем друг другу утром и вечером, мы добрые, как португальцы, которые знают, что «здесь» есть только вот в этой полосе
между Испанией и океаном.
Вот и нам, кажется, некуда бежать и некогда торопиться, и мы жалеем, жалеем друг друга.
…
Твой сосок как кончик ручки, там как будто бы маленький шарик, если провести по нему рукой, то шарик закрутится и запишет, запишет всё, что ты не решаешься.
…
В этом году опять много иван-чая как в позапрошлом. Интересно, от чего зависит эта динамика? Сейчас уже сумерки, и
Когда этот новый поезд тормозит, он издает хрип, как задыхающаяся от астмы старушка.
…
У
Вот оно мое тело, я ощущаю его границы, я ощущаю его границами. Я слышу приятный голодный гул внизу, поднимающийся к груди по внутренним тонким кабелям.
Архитектура его лица, как карта, ведущая к степной пустоте.
…
Пересечь Волгу немного,
Маленькую полульдистую её протоку
До песчаной островной свободы.
Мы с псами в заборном оцеплении,
Поцелуи, как и время у распорядка, украдены,
Но пересеки льдистую Волгу немного, и…
…
Поцелуй с одной стороны со вкусом солёного огурца, с другой — ревеневого варенья. Ревень мы собрали вчера
у дачи людей, которых я никогда не встречала.
Но мы плавали с псами в торфяном озере, где древняя глыба посередине.
Эти люди почти не ездят туда, и мы упивались тем,
что им не так уж и нужно,
кофе на солнце, на стриженой лужайке из клевера,
нектарины за низким столиком, сидя прямо на траве,
пока псы носились вокруг.
Я тогда подумала — какие контрастные дары.
Сложно не поддаться религиозному чувству, когда через час
пёс бьется в конвульсиях и, кажется, умирает
от съеденной на берегу травы и песка.
После ветклиники идёте по закату финского залива, обрывая зелёные шишки для варенья,
и ты вспоминаешь, как в детстве мама говорила: «Не надо так сильно радоваться, потом придётся платить».
Пёс живой, идёт рядом, только грустный немного.
И так сложно избавиться от глухого стука мистического «А может и правда
он поплатился за мою неприкрытую радость?»
Каждый день ощутимое пекло страны, а я сижу в академии и борюсь с днями,
нашпигованными битым стеклом и цветеньем лимона.

