Катерина Белоглазова и Нигина Шарапова. Как возможна антропология, в условиях когда границы человеческого размыты?
В октябре начинает свою работу Московская антропологическая школа — двухгодичная образовательная программа в области современной философии и междисциплинарных гуманитарных исследований для теоретиков и художников. В ее фокусе современные концепций экологии, теории медиа и техники, а также изучение нечеловеческих и неживых агентов. В связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса набор в школу продлен до 5 октября, а стоимость одного года обучения снижена в два раза и составит 55 тысяч рублей.
В преддверии открытия школы редактор сигмы Константин Корягин поговорил с кураторками МАШ кинокритиком Катериной Белоглазовой и философом Нигиной Шараповой о том, каким может быть постгуманистическое образование, как говорить о
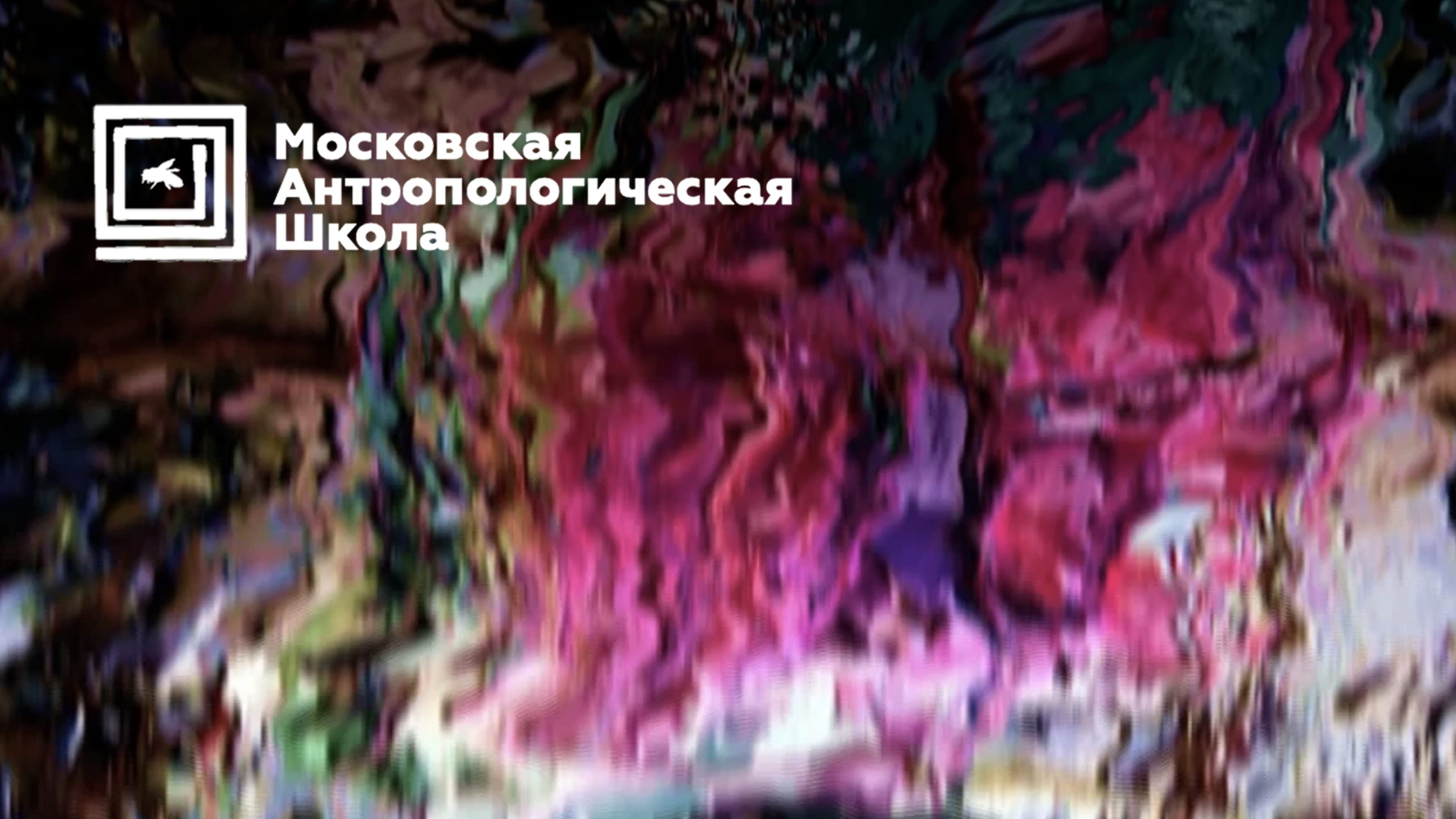
Константин Корягин: Давайте начнем с вопроса о том, почему вы вообще почувствовали необходимость поучаствовать в создании новой философской школы? Что такого по вашему остается сегодня недопроявленным в других институциях, занимающихся философией в России?
Нигина Шарапова: В классическом философском образовании существуют очевидные лакуны и касаются они прежде всего современности. Это больная тема для большинства российских философских факультетов, которая буквально раскалывает сообщество на две части: университетских философов, которые зачастую ничего не желают о ней знать, и своего рода публичных философов, у которых нередко сложные отношения с классическими институциями. Поэтому в России целый ряд авторов не включается в программы и не обсуждается на занятиях, а попытка заниматься ими в рамках дипломных и диссертационных исследованиях часто встречает большое сопротивление.
Катерина Белоглазова: Отчасти это происходит
НШ: И мы хотели, чтобы МАШ была посвящена последним тенденциям и дискуссиям, актуальными в России. Многие интересуются темами, которым посвящена наша школа, но существует очень мало институций, где их можно целенаправленно изучать. При этом сам процесс в нашем случае не стоит мыслить буквально как обучение, поскольку отсутствие систематических курсов предполагает скорее форму представления результатов исследовательской работы из первых рук. Не думаю, что мы придерживаемся идеи, что учим чему-то, скорее мы создаем среду, где можно что-то узнать и включиться в дискуссии.
КБ: Изначальным нашим желанием было создать философскую школу нового формата. Более гибкую и междисциплинарную. Но поскольку наш курс рассчитан на два года, а философия — это огромная традиция, необходимо было выбрать определенный фокус и подход. В связи с этим возникла идея возродить Русскую антропологическую школу, существовавшую в рамках РГГУ под руководством академика Вячеслава Иванова, и придать ей более системный и современный вид с точки зрения теоретического поля, которое будет в ее фокусе.
Близким к подходу в РАШ у нас сохраняется междисциплинарность, связь гуманитарных исследований с другими областями теории и практики, в том числе точными науками, и авторский подход — акцент на исследовательских интересах преподавателя и его нынешнем исследовании. Принципиальная для структуры школы идея — не создавать программу курсов и искать под нее людей, которые будут их читать, а сделать все наоборот. Курсы, которые планируются в нашей школе, — это скорее коллаборации преподавателей и студентов в работе над интересующими их исследованиями и конкретными вопросами.
КК: То есть вы решили идти от самих людей?
НШ: Да, мы решили пригласить значимых исследователей в интересующих нас областях и отталкиваться от того, что им самим было бы интересно прочесть у нас.
КБ: В итоге, все курсы оказались объединены неким полем интереса к человеку во взаимодействии с теми средами, которые нас окружают: социально-политической, технологической, экологической, коммуникативной, эстетической. Как вместе функционируют части этой динамической сборки, в которой каждый из аспектов может быть подвержен воздействию и оказывать свое влияние на другие, какие парадоксы образуются из их
Вопрос, который волнует и который хотелось бы поставить в центр образовательной и исследовательской работы в нашей школе: как возможна антропология в условиях, когда сами границы человеческого размыты? Лично я верю, что даже отказываясь от пресловутого «морального императива», от мировоззренческих пут классической философии (но не отрицая ее наследия) мы всё равно остаёмся с четырьмя кантовскими вопросами: что я могу знать? что я должен делать? на что я могу надеяться? что такое человек? Они все равно актуальны для нас в нынешнем меняющемся и неясном мире, ставящем под вопрос, как само понятие «человеческого», индивидуального или коллективного, так и его атрибуты, вроде агентности, самосознания и желания.

КК: Предлагаю подробнее поговорить о критике антропоцентризма, на которой МАШ делает особый акцент. Как именно изменилось сегодня в обществе восприятие человека и его места в мире, и через призму каких теорий и практик собираются осмыслять эти изменения в МАШе?
КБ: Современный мир представляется сложносочиненным и вместе с тем разомкнутым пространством, в котором сталкиваются и сосуществуют множество часто взаимоисключающих друг друга логик, политик и факторов. Например, мы можем говорить об идее глобальной деревни и вместе с этим о концепции разных современностей, об агентности капитала и его зависимости от, допустим, климатических условий, и так далее. Что может быть здесь наглядней, чем сам 2020 год — все, что связано с пандемией короновируса, демонстрирует нам, насколько неразрывно связаны биологическая, техническая, экономическая и гуманитарная сферы нашей жизни. Соответственно этому меняется и отношение внутри самой диспозиции человек-мир, и новые грани приобретает вопрос о том, как нам жить вместе не только друг с другом, но и с окружающим нас живым и неживым универсумом. Поэтому мы считаем, что современная антропология уже немыслима без исследования окружающих человека сред и привлечения соответствующих теорий.
Как так вышло, что мы доверяем языку больше, чем материи?
Среди основных направлений школы — исследования медиа и техники в их связи с различными аспектами антропологии (курс Дениса Сивкова об антропологии космоса или курс Максима Мирошниченко о кибернетическом мышлении и синтетическом интеллекте в советской кибер-культуре). Затем — проблематика антропоцена и планеты (об этом расскажет Николай Смирнов). Вопросы, касающиеся так называемого «материального» поворота, а также объектно ориентированных онтологий и онтологического поворота в антропологии (курсы, посвященные этим теориям будут вести Алла Митрофанова и Денис Сивков). Вот эти концепции «онтологических» поворотов задают проблематическое поле школы и антропологии на границе «человеческого». Планируется также курс по новейшей истории философии, который прочтет Елена Петровская.
КК: А само понятие «онтологический поворот» вы могли бы раскрыть? Что и куда повернулось?
КБ: Речь в этих теориях идет о том, что есть некоторая объективная существующая реальность самого мира и феноменов в этом мире, не связанных с человеком, его точкой зрения, когнитивными и иными проекциями на этот мир. Глобально, мне кажется, появление этих теорий упирается в поиск выхода из того положения вещей, которое сегодня часто называют эпистемологическим кризисом, с поиском каких-то новых способов помыслить мир и способ нашего с ним соотнесения так, чтобы открылись иные возможности для нашего самоопределения, действия и, в том числе, для политического воображения.
НШ: Да, онтологический поворот предполагает еще и от-ворот, отворот от эпистемологии. Прежде всего это связано с тем, что Мейясу называет «великим внешним». Разные авторы по-разному об этом говорят, но есть общая озабоченность тем, что как-то так вышло, что мы доверяем языку больше, чем материи. Или, например, история нам сегодня почему-то кажется очень динамичной и контекстуальной, а материя статичной и неизменной.
Если совсем обобщать, то можно сказать, что последние пару веков философия была идеалистической. И различия между эпистемологией и онтологией стали стираться. Если все опосредованно человеческой трансцендентальностью или культурой, то ни о какой онтологии уже говорить нет смысла, она подменяется вопросом о средствах познания. И если у Канта еще оставалось какое-то смутное представление о
КБ: Эти теории, в разных часто спорящих друг с другом вариантах, всегда подспудно стремятся дать голос тому, что ущемлено, объективировано или заведомо присвоено. Помыслить самостоятельную, независимую от нашего взгляда реальность.
КК: А с помощью каких концептуальных моделей предлагается теперь по-новому помыслить нашу реальность?
КБ: Есть идея экологичности, то есть некой системы, где все элементы важны и необходимы для поддержания сложных процессов ее воспроизводства, как, например, в лесу. На сигме есть классная статья Гваттари, написанная еще в 90-х, но до сих пор звучащая очень современно. В ней он предлагает более широкое понимание экологии — создания таких миров нашего взаимодействия, которые бы, как минимум, не ущемляли другие.
НШ: У нас была лекция в рамках публичной программы, которая называлась «Экология вкуса», читал ее Даниил Аронсон. Он там заметил, что на протяжении истории философии мы использовали разные модели описания мира. Например в раннее новое время была модель механизма (тела-автоматы, бог-часовщик и т.д.), потом организма, сейчас такой моделью для нас служит экология. Экология — это среда, динамическая сборка, где все части, которые в нее входят, выступают агентами, которые ее формируют.
КБ: Но модель — это очень проблематичная вещь. Почему сейчас все говорят про текучесть, про процессуальность? Это все опять связано с проблематикой языка, и шире — систем описания и связей, а также с тем, что мы существуем в моделях и не можем без них, но чувствуем необходимость как-то их размыкать.
НШ: Катя справедливо замечает, что здесь существует противоречие: сначала мы говорим, что произошли эпистемологические смещения, в том числе и в плане самой практики познания, а потом утверждаем, что это просто новая модель. Здесь возникает вопрос: можем ли мы продолжать мыслить саму практику познания в таких терминах? И на него, конечно, существуют ответы. Мне нравится, например, аргумент от Карен Барад — она, чтобы снять этот материально-идеалистический дуализм, предлагает мыслить концепты перформативно. Тогда между концептом и объектом не возникает иерархии, концепт не надстраивается, а встраивается с объектом в один онтологический план. Так что можно перестать так уж бояться слова «модель».
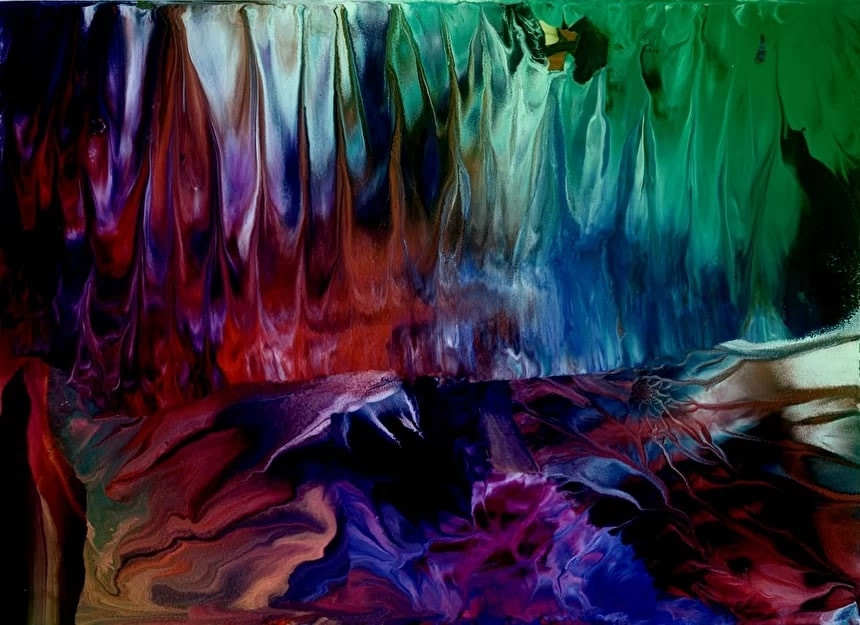
КК: Итак, вы делаете академическую школу, которая озабочена теориями, утверждающими, что человек не является ни главным гарантом реальности, ни основным агентом ее построения, что он уже далеко не в центре разворачивающегося бытия. Но кажется, что академическое знание в любом случае все еще продолжает существовать в сцепке с классическим гуманизмом. Где есть субъект — ученый — и объект — то, что он изучает. Ученый что-то об этом объекте думает, делает о нем какие-то выводы и пишет потом по этому поводу диссертацию. Как
НШ: Чтобы ответить на этот вопрос, нужен небольшой исторический экскурс. На смену чему пришел гуманизм? Это некоторое освобождение человека, сферы его производства и вообще культуры от теоцентризма. Гуманизм — это секуляризация. Если раньше основанием всего символического и тварного был бог, то гуманизм, конечно, произвел освобождение от божественного в сторону человеческого. Но в этом освобождении, предполагалось, что у человеческого есть вполне определенное содержание. Что существует некоторая творческая и разумная природа человека, которую надо высвободить, и что именно она послужит новым основанием. Сейчас человек этим основанием быть перестал. А идея, что у человека есть природа, сегодня называется эссенциализмом и у нас, что совершенно точно, нет никаких представлений о ее содержании.
У Хайдеггера есть текст «Время картины мира», где он говорит о нововременной позиции познающего субъекта, в которой он предстоит перед миром как перед картиной. И именно экология — как концепт, утверждающий взаимное опосредование познаваемого и познающего, противостоит этой концепции. Экология — это включение в познаваемое, снятие самой этой дихотомии. Конечно, такие идеи высказывались и раньше, прежде всего в связи с квантовой механикой, которая показала, что процесс наблюдения преобразует наблюдаемое, что наши познавательные модели не являются чем-то внешним, но включены в один план взаимодействий, в котором разделение позиций наблюдаемого и наблюдающего становится искусственным.
Экология — это среда, где все части, которые в нее входят, выступают агентами, которые ее формируют
В этом смысле экология — это подход, а не предмет (риторика экоактивизма как раз зачастую сама экологичной не является, поскольку исходит из отделения и противопоставления нас миру). Например, можно говорить об экологии искусства, в том смысле, что художественная работа — это принципиальное соавторство (причем не только человеческое), что она является скорее средой, которая создана многими элементами: есть институт критиков, есть публика, есть материал, есть еще люди, которые создали ткань холста, кто создал подрамник, кто эту картину повесил, есть температура, бактерии и микроорганизмы, которые ее населяют. Когда мы смотрим на художественную работу как на среду, нам уже сложно сказать, где она начинается и заканчивается, провести границу. Таким образом, идея среды разрушает многие классические оппозиции.
КБ: В кино это называется теорий аппарата и имеет отношение к критике его политического «бессознательного».
НШ: После этого долгого теоретического отступления становится яснее как содержание нашей программы сказывается на ее структуре. В том, что я говорила выше, важна работа на границе. Наша школа устроена экологично, мы являем собой среду. Поступая, например, в Московскую антропологическую школу, студент_ка оказывается в кругу самых разных курсов и идей, между которыми нет плотных границ. Можно посещать курсы МШНК, Литературной школы. Это все очень проницаемо и показывает не только удобную прагматику учебного процесса, но и то, что между литературной, философской и художественной практикой нет принципиальных разрывов.
Содержание школы зависит от того, кто в нее включен и система эта предельно горизонтальна. Нина Сосна (куратор лаборатории исследований Медиа и техники), говорит, что до завершения набора и знакомства со студентами, ей вообще трудно сказать, что из себя будет представлять ее лаборатория, потому что содержание и вектор ее работы не может быть определен независимо от ее участников.
КБ: Сам опыт встречи определенных студентов с определенными преподавателями — это уже ситуация, на границе которой возникает обучение и исследовательская работа. Опыт как таковой, мне кажется, тоже один из важных и непростых концептов. Можно его не учитывать, дезавуировать и не принимать в расчет теоретически, а можно сделать его центральным, можно смотреть с точки зрения разностей и разницы опытов тех инстанций в нас, которые эти опыты испытывают. Смотреть, как они друг с другом взаимодействуют, начиная с генетического уровня, например эпигенетика, до гормонального уровня, физиологического, эмоционального, языкового и прочих — вплоть до того опыта, который человек или группа формирует и испытывает во взаимодействии друг с другом и феноменами окружающего мира, например, голосовыми помощниками, офлайн и онлайн средой, бюрократическими процедурами и так далее. Даже в этом смысле человек расслаивается на разные инстанции переживания этих опытов.
КК: А что касается опыта, конкретно, студента в школе, как он расслаивается на разные части? Я так понимаю, что в МАШе существуют три лаборатории. Какое взаимодействие происходит между ними? Насколько сильно каждый из студентов прикреплен к каждой из них? Как он строит свой индивидуальный образовательный план? И насколько этот план действительно оказывается индивидуальным?
КБ: В МАШ функционирует 3 лаборатории: «Posthuman», «Медиа&Техника» и «Актуальная философия». Студенты могут свободно посещать занятия всех трех лабораторий, однако обязательно должны прикрепиться к той, в рамках которой будут защищать свой итоговый проект. Программа двухгодичная и с точки зрения академической нагрузки близка к магистратуре. 2-3 дня в неделю в зависимости от расписания студенты слушают авторские курсы преподавателей (они могут быть организованы, и как лекции, и как семинары, и как любые другие другие формы коллективной работы, например, ридинг-группы). Раз в две недели будут проходить исследовательские семинары, на которых каждый из студентов сможет обсудить работу над своим проектом. Важно, что на них будут приглашаться и сторонние исследователи и художники, чьи проекты могут быть интересны студентам. Кроме этого у нас будет курс по методологии исследования, который поможет студентам разобраться в том, с чего начать и как вести свою работу. Для поступления необходимо кратко описать проект академического исследования или художественной работы, которая затрагивает релевантные для школы темы.
КК: Учитывая, что вы не мыслите себя как классическую академическую институцию, хочется узнать, чем заканчивается академический путь студента в МАШе? Как будут выглядят выпускные работы? Какие к ним требования?
КБ: Итоговой работой является защита своего исследования, выполненного либо в форме научной статьи, либо в художественной форме. МАШ, как и Московская школа новой литературы, открывается на базе Московского международного университета, где уже работает Московская школа нового кино. У университета есть некоторая техническая база, которая будет доступна студентам для выполнения художественного проекта: съемочное оборудование, типография и выставочные площади в атриуме здания на Ленинградском проспекте.

Тут важно оговориться, что МАШ — это не художественная школа. Вообще вопрос, как связаны искусство и теория, кажется мне проблематичным. Во-первых,
Более того, слушая лекции и подкасты теоретиков, я замечаю, что они сами часто ищут коллаборации с художниками, потому что многие их идеи могут найти свое отражение и воплощение скорее именно в художественном, чем в академическом поле (и особенно это касается корпуса теорий вокруг объектно-ориентированных онтологий). Поэтому в рамках МАШ мы хотим создать пространство встречи художественных и исследовательских практик. Сейчас у нас как раз проходит открытый лекторий «Беседы с художниками», где исследователи, в основном преподаватели школы, разговаривают с художниками, но не в формате привычного артист-тока, а скорее в форме диалога, движения двух исследовательских ракурсов навстречу друг другу.
Мы хотим поставить под вопросов разного рода универсалистские высказывания и обратиться к поиску новых логик различий и парадоксальных соединений
НШ: Соединение художественного и академического мы видим постоянно, даже среди наших преподавателей. Например, Полина Колозариди выступала недавно куратором выставки. Николай Смирнов, художник и географ. Да и сама идея, что философия и искусство — это разные практики, уже не так очевидна. Зачастую это один круг проблем. Поэтому соединение художественного и академического — это не
КБ: В итоге, студент получит диплом о дополнительном образовании, свою выполненную работу и погружение в новую среду. Что касается диплома, честно говоря, мы думаем, что иногда можно учиться не ради диплома, а ради самого образования.
НШ: Мы и наши преподаватели озабочены вопросами доступности образования. Плата за обучение связана с тем, что у нас нет внешнего финансирования. У нас есть возможность оплаты по семестрам и по месяцам. И, да, у нас есть гранты. Один полноценный грант на обучение и два места с 50% скидкой.
КК: У меня остался вопрос про политическое. Какова его роль в программе школы? Меня здесь интересуют два аспекта. Во-первых, в программе МАШ нет курса по политической теории и социальной философии. Более того, существует распространенная точка зрения, что объектно-ориентированная онтология, спекулятивный реализм и т.д. в политических экспликациях своих теорий продвинулись не слишком далеко. Так, концепция парламента вещей в принципе повторяет либеральную модель включения и признания всех акторов какого-либо процесса.
КБ: Во-первых, мы не исключаем возможности, что такой курс появится в будущем. Во-вторых, есть замечательная Шанинка и ЕУ, в которых уже существуют развернутые курсы по
НШ: И еще одна очевидная политическая проблематика в этой всей истории — феминизм. Постгуманизм и новые эпистемологии, они все, по большому счету, феминистские.
КК: Почему?
КБ: Начнем с того, что женщина — не человек (смех).
НШ: Я расскажу только об одном из возможных сюжетов. Известно, что понятия «человек» и «субъект» различны, но переплетены. Однако субъект связан с основанием, которым выступает человек. И очень важной тенденцией феминистской теории является изобретение новой субъективности. У нас была публичная дискуссия «После субъекта» и вот, например, Виктор Вахштайн там говорил, что во всех этих поворотах речь идет не о конце субъекта, а о его расширении, под которое теперь подпадают все — живые и неживые агенты. Но многие фем-теоретикессы с этим вряд ли согласятся. Например Брайдотти, которая говорит, что субъект — это категория универсальная, относящаяся к мужскому, а бремя различий ложится на женское.
КБ: Здесь мы как раз подбираемся к действительному смыслу этой известной шутки про то, что «женщина — не человек». Роль иного в современном мире во многом берет на себя женское, но не много ли у женщин ролей другого? Кроме двойного труда, приходится еще и тянуть на себе всю инаковость.
НШ: И дело тут не в том, чтобы противопоставить одной универсальности — мужской, другую универсальность — женскую. Скорее некоторой универсальности, которая по определению маскулинная, противостоит расколотость, которая непрерывно терпит неудачу стать чем-то целым. И мы знаем об этом не только из теории, но и непосредственно из истории политического фемдвижения: критика второй волны феминизма заключалась в том, что они говорят якобы от лица женщин, но каких именно? У женщин разного класса и этнического происхождения разный опыт. С этим вопросом было связано возникновение интерсекционального феминизма, который утверждал, что не существует никаких “женщин” вне сложной системы различий. Поэтому встал вопрос (и он прежде всего политический) от чьего лица ведется борьба, кто стоит за этим словом «женщины»? В этом вся сложность, что этот разный опыт не может собраться в некое целое, поэтому его не может репрезентировать классическая модель субъекта политического действия. И Брайдотти, например, предлагает номадического субъекта, в котором могут быть сосредоточены разные голоса. Что этот тип субъективности не предполагает целостного и универсального, но постоянное смещение. В общем эссенциализм, понятия «человек» и «субъект» связаны с универсальностью, которая сама по себе мыслится маскулинной. И
КБ: Опять же — постановка вопросов к разного рода универсалистским высказываниям, а также поиск новых логик различий и парадоксальных соединений, очень важны в том ракурсе исследовательской работы, который предлагает МАШ. Тем интереснее обращаться к междисциплинарным исследованиям и современной теории, чтобы снять слой привычных представлений о мире и человеке и попробовать увидеть и проследить иные связи между феноменами. В конечном счете, хочется сделать такую школу, частью живых процессов в которой хочется быть самим.
