Ежи Гротовский. Мир должен быть местом правды
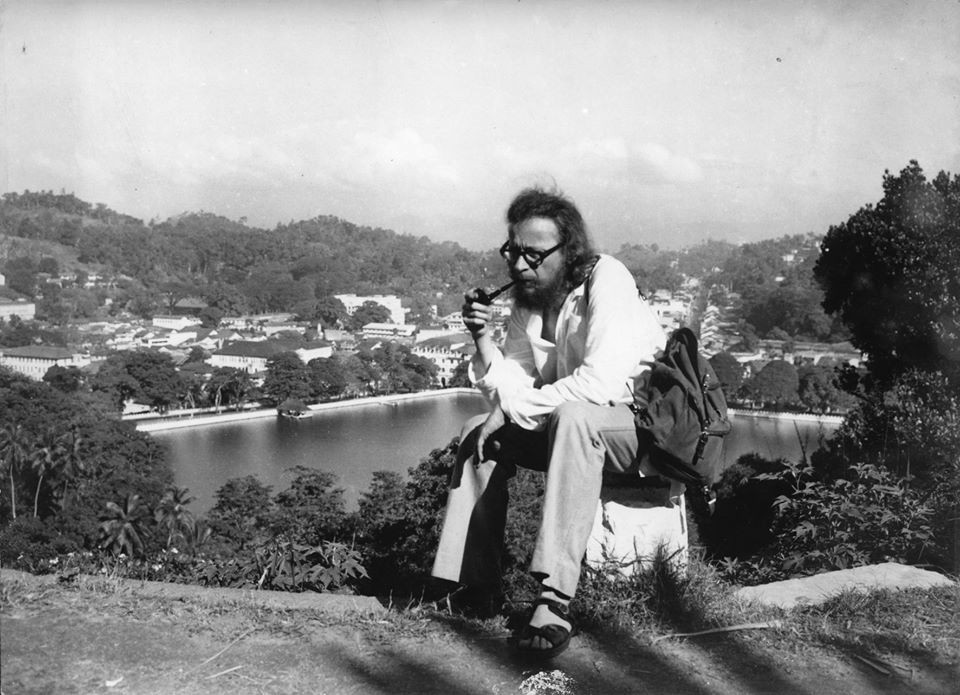
Согласно уставу, Театр Лаборатория является исследовательским институтом. Он осуществляет деятельность в сфере, которая включает в себя и театр, и то, что около театра. Но его предназначение состоит в том, чтобы обращаться к таким областям, к которым до сих пор еще не обращались. Обязанностью Театра Лаборатории как институции является проведение исследований по определенному методу. Исследования должны находиться, по самой своей сути, в развитии. Их программа и характер должны быть в движении. То есть если институт какое-то время занимается выбранной сферой, он делает это до того момента, когда что-то начинает становиться понятным, исследованным (для меня и моих коллег «понять» и «исследовать» означает — делать). И тогда, очевидно, появляется следующий горизонт деятельности. То, чем институт занимается сегодня, не то же самое, чем он занимался, скажем, шесть месяцев назад, а от того, что было предметом работы десять лет назад, нас отделяет теперь бездна времени.
Какова программа института? В эту программу входят как частные, так и общие проблемы, однако все они касаются практики. Мне кажется, что, несмотря на эволюцию программы, в ней можно различить такие вопросы или, вернее, вызовы, которые составляют основание, проходящее через все фазы работы Лаборатории, через все ее существование до сей поры.
Работа Института касается драматических ситуаций. Этимология слова «драматический» является здесь ключевой. Драматические ситуации — это такие ситуации, которые связаны с действием, с поступком, деянием, а также с движением в пространстве.
В течение ряда лет в фокусе нашего внимания находилась работа с актером. Мы искали, что актер может сделать — когда-то это было одним из самых существенных в моей жизни исследований. Но каково этимологическое значение слова «актер»? Оно означает — человек действующий.
С этими двумя вопросами связаны и все остальные. Во-первых, общение (лучше говорить об общении, чем о контакте, потому что словом «контакт» может быть концептуальным, мертвым). Во-вторых, органичность. В-третьих, чувственное восприятие. В-четвертых, работа над собой (буквально, делание себя).
Основная деятельность Театра Лаборатории проходит в Польше. Однако, ряд программ был реализован в Соединенных Штатах, во Франции, в Австралии, в Италии и других странах в разных географических широтах.
Я назвал несколько ключевых проблем этого многолетнего пути — и, в сущности, как можно увидеть, в них была как бы одна общая исходная точка. Но при этом все эти годы мы проходили очень разные фазы.
Первая фаза длилась, начиная с конца 50-х годов, до начала 60-х. Тогда мы ставили перед собой вопрос о присутствии актера и зрителя. Мы делали спектакли. Экспериментировали с пространством. Этот период не был, по моему мнению, достаточно плодотворным, потому что все время существовало деление на два ансамбля — с одной стороны — актеров, а с другой — зрителей. Мы отменяли сцену, сталкивали их в пространстве — лицом к лицу. В конце концов, мы оставили пустой зал, который заново обустраивался для каждой новой премьеры. В этом пространстве актеры не только действовали во взаимном партнерстве, но и втягивали во «взаимодействие» зрителей. На этом пути мы дошли до той точки, когда зрители реагировали и иногда действовали как бы вместе с актерами. Реакции актеров и зрителей по видимости были самостоятельными, свободными, «импровизированными». Но за всем этим стоял узурпатор, которым являлся я, как режиссер. Тем самым, это «взаимодействие» актеров и зрителей было заранее, хотя иногда и достоверно, но все же структурно выстроено. И поэтому оно часто соскальзывало в стереотипы.
Как я уже сказал, нас интересовал вопрос присутствия актера: что лежит в основе его ремесла, существует ли некая система актерских знаков? Прежде всего, нас интересовали знаки. Мы пытались в практике определить элементы экспрессии: порыв, импульс, звук, интонация. Для зрителя каждая из этих вещей по отдельности ассоциируется с актерским знаком. Наши тогдашние исследования могли напоминать отчасти классический восточный театр. Нужно, однако, сказать, что в поисках знаков актер не мог быть собой, не мог являть себя как человек. Кто-то создавал над ним структуру знаков. Этим кем-то был режиссер. Собственно, это я и называю узурпацией. И все же достижением этого периода являлась дисциплина и точность работы. В этих исследованиях было некое преодоление себя, переход к такой жестуальности знака, которая была уже в
Потом наступил момент, когда для нас стало ясно, что важным является не знак, а то, что называют «симптомом». Именно в симптомах проявляется жизнь человека — каков он есть, и что он делает. Посмотрим на
Таким образом, во второй фазе появился человек-актер. И вместе с ним появился человек-зритель. Не публика, не
Тогда мы вышли в период, который позже стал своего рода мифом. Я имею в виду бедный театр. Это была одна из возможностей театра: возможность истины театра. Однако, кроме нее существуют и другие возможности. Что, собственно, значит — бедный театр? Для начала, есть множество вопросов. Например, для чего нужны декорации? Для чего костюмы? Для чего игра освещения? Для чего грим? Для чего записанное музыкальное сопровождение? Для чего заниматься всем этим, если театр может быть просто поиском истины между людьми? И не в профессиональном, а в чисто человеческом смысле.
Я прекрасно знаю, что в искусстве не существует одного пути. Один из самых близких и важных в моей жизни людей, Свинарский, использовал все технические возможности театра, и у него это имело свой смысл, было продуктивно. Поначалу и мы пользовались техническими возможностями театра. Потом осталась только сцена и актеры. Но тогда произошло нечто поистине неожиданное. Голос актера оказался музыкой. И движение актера оказалось музыкой. Речь шла только о том, чтобы создать условия, при которых актер мог бы импровизировать. Если актер приближается к
В начале 70-х годов начался новый период, который я назвал «паратеатральным» периодом. В этот период мы начали снова, но на этот раз уже реально, искать способы, чтобы другие, скажем так, люди извне, могли непосредственно и активно действовать с нами, среди нас. Первые два года казалось, что — за исключением очень узкой группы людей — это только мечта, только некая утопия. И мы тогда называли ее, эту утопию — «праздник».
Потом на деле оказалось, что и это возможно в большем масштабе, нужно только создать особые условия, иную версию. Первое условие — деликатность. В основе этого не может лежать шум и хаос. Не может опираться это и на администрирование, на командование. В этом был ответ на потребность выйти, в жизни, за границы игры или «представления» в том смысле, какое вкладывал в это слово Станиславский. Речь шла о том, что не имеет ограничений ни в пространстве, ни во времени. Иногда это продолжается три часа, а иногда — торе суток. Иногда это происходит в замкнутом пространстве, а иногда в открытом, открытом в буквальном смысле — в поле, в дороге. Появились разные возможности, но вопрос всегда об одном и том же — о действительном человеке. О человеке, который не жалеет себя, не прячется и который способен к общению. Это трудная работа. Ведь что такое делание себя (работа над собой)? Легко говорить об этом, и легко делать это с другими. Тут нужно быть собой — таким, какой есть, каким уродился, со всей своей жизнью, с моими мечтами, потребностями — быть собой целиком.
Это своего рода действие. Это как поток, как
Материя этих опытов не тождественна творчеству в театре. Поэтому они не могут стать посланием для театра соучастия или чего-то в этом роде. Может так случиться, что кто-то сделает из них практические выводы для собственной театральной практики, также как разные люди извлекали для себя выводы из бедного театра. Среди нас были ученые, психологи, врачи, педагоги, культурные аниматоры, люди очень разных профессий.
Во всех трех фазах речь все еще шла о том, что я вначале назвал «драматической ситуацией». То есть о времени, пространстве и факте взаимодействия людей. А восприятие? Это отпускание (освобождение) и человека, и мира, в который он входит, как птица входит в ветер. Тогда глаза видят, уши слышат как бы впервые, все новое, и все впервые. Видеть как птица, а не думать птице. Мысль начинается дальше. Вокруг есть мир. Обычно человек его не видит. Перед ним все закрыто. Как открыть мир? Есть такие встречи, связанные с живым, органичным. Человек отказывается от маски, от роли, возвращается к общению. Входит в мир, как птица в пространство.
Вообще, я считаю, что существует такое явление, как жест. Жест сам по себе, скажем так, в чистом виде, жест для повторения. В то же время то, что заканчивается жестом, берет начало внутри тела, от самого человека. В любом случае, так происходит, когда действующий человек является живым. Импульсы исходят от тела, органично рождаясь в важные моменты жизни. В моменты большой радости, в моменты любви и горя — в самые «сгущенные» моменты нашей жизни. Когда мы не разделены, но целостны. Это моменты исключительные, привилегированные, подлинные. Тогда есть нечто такое, как «последняя» правда. Не застывшая в форме. В радости, которая меняет его жизнь, кто-то начинает двигаться — это как танец, но это и не танец. Это просто. Кто-то в печали, которая меняет его жизнь, в полном отчаянии плачет. Это как старинные ламентации. Но это просто. Кто-то танцует? Кто-то плачет? Не зная, что в том, что он делает, присутствует особый ритм. Лимановский заметил, что настоящий художник, когда держит кисть в руке, не стоит перед картиной — сам не зная о том, он танцует перед мольбертом. Пишет все его тело, картина — это след ритма.
А как быть с проблемой пространства? Можно находиться в нем, как такие удивительные птицы — чайки. Кружа, кружа вдруг — пикируя. Так происходят всякий раз, когда человек преодолевает границы усталости и сопротивления, когда открывается процесс. Этот процесс представляет собой нечто вроде, скажем так, импровизации. Речь не идет о том, что обычно в театре называют импровизацией, когда актер делает то, что для него легче всего, например, как-то держит папиросу или постукивает ложечкой. На самом деле это штампы. Это не импровизация. Импровизация — это самоуправляемый поток, как в джазовой музыке, когда каждый предлагает свою версию «темы», но все версии не составляют нечто хаотическое — они сами превращаются в «тему», и сами являются жизнью.
Все, о чем я вспоминал в связи с третьим периодом поисков, это вопросы действенной культуры. Противоположным ей полюсом является то, что можно назвать «пассивной культурой», но это не очень удачное название, поскольку оно может вызывать отрицательные коннотации. И надо сказать, что, собственно, пассивная культура, а именно, литература, была для нас отправной точкой, когда мы начинали в 1959-м году. Не всякая, конечно, а та, которая доносится к нам, как голос из глубины веков. Литературу нельзя ничем заменить. Но речь не идет и о замене пассивной культуры — культурой активной. Пассивная культура является чем-то очень настоящим: кто-то читает книги, кто-то смотрит спектакли, кто-то смотрит картины, кто-то слушает музыку, и при этом все то, что он вкладывает в это восприятие, не является чем-то механическим.
Но когда можно говорить о действенной культуре? Кто-то пишет книгу, и оказывается, что эта книга пишет себя им самим. Это действенная культура. Плод ее становится важным для многих людей. Но сам процесс, который предшествует плоду, является одним из самых мощных опытов, доступных человеку. Действуя — можно войти в этот процесс. Можно войти в этот процесс с людьми, которые не занимаются творчеством, искусством, не будучи ни профессионалами, ни любителями. Есть люди, такие же, как мы, как каждый из нас, и этого достаточно. Дело совсем не в том, чтобы вместе писать картины или делать спектакли. Общение, действие, органичность — во всем этом есть вызов. Если участник отвечает на него поступком, действием, тогда это становится живым и для него, и для нас. В конце концов, отвечать — значит жить в этом.
Мир есть театр — говорили Шекспир и Кальдерон. Но это можно понимать по-разному. Например, когда кто-то делает театр, то в этом есть целый мир. Но есть и другое понимание, которое лично мне ближе. Мы входим в мир, чтобы пройти сквозь него. Мы проходим через испытание миром, а сам мир является местом правды. В любом случае, мир должен быть местом правды. Очевидно, что наша общая обязанность состоит в том, чтобы он был таким местом, насколько это касается мира людей.
А как насчет мира деревьев, мира птиц, мира звезд? Этот мир старше нас. Быть в нем смиренными, без хамства, быть внимательными. Спросим иначе: можно ли полететь? Как действовать так, чтобы испытать на опыте, что такое не иметь веса? Не через создание некоего психического «климата». А скорее, через отпускание тела, отпускание чувств. Я говорю «тело», как Станиславский. Я говорю «тело», но это значит — тело и все остальное. Я говорю «тело», потому что это осязаемо. Возможен ли такой полет на земле? Возможен. Если наше общение происходит всегда впервые, если то, что мы делаем, всегда вначале. Если у нас есть вера. Какая вера? Особая. Вера в то, что невозможное — возможно. Что опыт этого может быть осуществлен через человека, в человеке. Через меня, через себя — собой, таким, какой я есть, таким, каким ты сбываешься. Не таким, что здесь тело, а здесь психика, но — целостным. Особая вера. Благодаря ей невозможное — возможно, а «невидимое» — видимо. Как вызвать такое действие? Каким действием осуществляется такая вера?
Опубликовано в журнале «Диалог», в 1979 г., № 10 (282), стр. 138 — 141.
Публикация сопровождалась следующим подзаголовком: «Выступление в ходе польско-советского симпозиума, который проходил в Москве в сентябре (17 — 18-го) 1976-го года. Некоторые из других выступлений на этом же симпозиуме, также две вступительные статьи мы уже печатали в «Диалоге» в 1977-м году, № 2 и 3. Стенограмму подготовил к печати Лешек Коланкевич».
Перевод с польского П. Куликов
