Пролегомены к поэзии 2020-х: Дорджи Джальджиреев и новый мифотворческий (?) поворот.
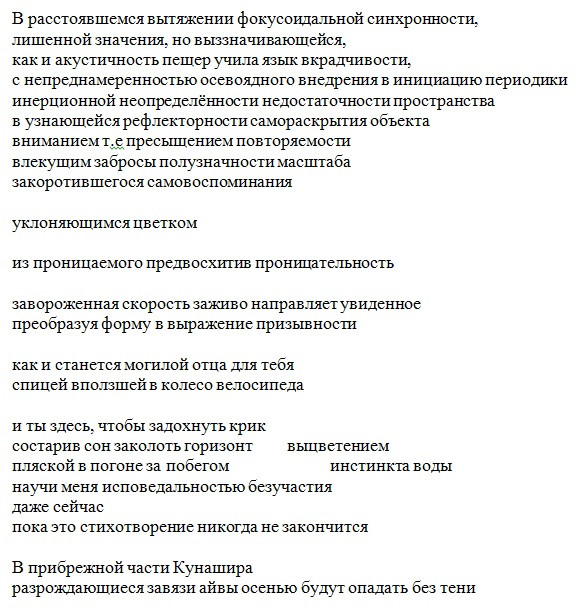
Первое, буквально нутряное ощущение от стихов Дорджи Джальджиреева (г.р. 1996, Элиста, Калмыкия) — завораживающее. Второе — это ловля себя на мысли, что твой европоцентричный взгляд рассыпается на мелкие фасетки (а ухо сворачивается в завиток ушной раковины), будто бы проходя обратный путь — от готового, сформированного образа (звука) — предзаданного трехмерного объекта (круглого и гладкого мифа) к самому процессу (раз)видения и (раз)слышания, туда, где завязываются образы и звуки, лишенные значения, но «выззначивающиеся», где «акустичность пещер» учит «язык вкрадчивости». Номитатор подборки Джальджиреева на премию Драгомощенко Алексей Масалов отмечал, что «в основе онтологии непрозрачной поэзии Дорджи Джальджиреева лежит буддийско-тенгрианская метафизика», замечу только что буддизм и тенгрианство применительно к поэзии Джальджиреева не укладываются в прагматику миноритарной литературы и политики идентичности, а выступают в роли своеобразной онтоэпистемологии — динамичного и диалектичного единства бытия и познания, где человек — не отдельное существо, а выступает частью природы (или — как сказали бы мы в
Сегодня, деколониальные и
Осознавая опасность подпадания под обаяние — древней, но ставшей сегодня ультрасовременной, неоязыческой мифопоэтики тенгрианства (как и под обаяние мифа Драгомощенко — с другой стороны) я вспомнил о знаменитом исследовании мифов Роланом Бартом, утверждавшим, что мифологией — от религии до идеологии и науки, проникнут весь наш язык: первичный язык-объект похищается метаязыком, натурализующим и деисторизирующим его смыслы (или отсутствие оных), чтобы сделать объективным основанием собственного концепта. Современная Барту поэзия, постоянно сопротивляясь мифологизации путем регресса к досемиологическому состоянию языка, тем самым становилась его — мифа — наиболее легкой добычей (наряду с математическим языком), так как «нулевая» — безмифная, внеидеологичная степень письма не возможна. Взамен негативного превращения в антиязык Барт предлагал с помощью письма перепохищать миф у метаязыка и включаться в конструирование собственных — искусственных — мифов, «поскольку миф — это слово, то им может стать все, что достойно рассказа, <…> ведь суггестивная сила мира беспредельна» [4].
Что, если помыслить поэзию Джальджиреева (и программу для молодой поэзии вообще), как такую процедуру, которая, будучи с одной похищена и эссенциализирована буддийско-тенгринанской (или иной неоязыческой) и драгомощенковской мифологиями, с другой — берет эти мифологии в качестве означающих и встраивает в свой поэтический миф на собственных основаниях? Такая поэзия, беря миф о другости своей — восточной — идентичности и сопрягая его с мифом паратаксиса, разрабатывает свой собственный метаязык, принадлежащий русскому языку метрополии и западным эпистемологиям и одновременно вываливающийся из них, не могущий быть присвоенным без остатка. Однако, так как семиотическое сопротивление исчерпало себя еще во времена того же Ролана Барта (в 1970-е он уже говорит не о семиологии и операциях со знаками, а о супрасегментных операциях с большими фрагментами — текстами (в терминологии Ю. Кристевой интертекстуальности)), этот неприсваеваемый остаток видится мне не столько субстанциональным, то есть находится не внутри языка, а скорее темпоральным, временным зазором, пустым временем, когда язык «созерцает свою способность говорить» (Дж. Агамбен) и которое мы, как читатели, получаем, чтобы наблюдать за собственными аффектами и чувствами, в то время как на наших глазах (в ушах) завязываются звуки, выкристаллизовываются образы, саморазличаются объекты…
Безусловно, это время обречено (эсхатологично), как неизбежен конец стихотворения. В классической поэзии, основанной на метрических и
В другом своем эссе «Костер и рассказ» Дж. Агамбен спрашивает: «Чем на деле является поэзия, если не речевым действием, отключающим и сводящим к бездеятельности все коммуникативные и информативные функции речи, с тем, чтобы открыть её для нового, возможного использования?» Новое использование речи неизбежно, но поэзия дает небольшую отсрочку, чтобы успеть вымечтать, каким оно — это использование — будет. Например, джальджиреевский поэтический миф сам, в свою очередь, окажется концептуализирован и упорядочен в форме пост- и
Х. Бей писал свое эссе о создании временных автономных зон свободы в 1991 году — в эпоху казалось бы полного торжества неолиберального проекта и «конца истории». Автономизм и локализм, хотя и не в такой индивидуалистической и иррациональной форме как видилось Х. Бею, в последующие два десятилетия оказались востребованы в виде множеств, аффинити-групп, сообществ и прочих ситуативных номадических коллективов, но раз за разом они рекуперировались новыми формами глобального капитализма. Здесь приходят на ум также агамбеновские политики «средств без целей» и политики «чистой медиальности», воплощенные всевозможными анти- и альтер- глобалистскими движениями и Оккупаями, подчинившие все производство времени и пространства присутствию (presence) на вражеской территории, внутри которой можно быть только партизаном непосредственности, переживая социальное целое как набор идентичностных частностей, без доступа к собственно целому. Но, с другой стороны, после краха социалистического блока пост-индустриальный капитализм не оставлял внешнего доступа к «чистому формальному различию» — первичной форме классовой борьбы, кроме как через проекты своих «коммунальных ассоциаций» (Ф. Джеймисон). Сегодня многие теоретики культуры и медиа констатируют следующую, еще более безальтернативную тотальность технокапитализма (общество метаданных Лучаны Паризи, технонейролингвовласть Ф-Б. Берарди), где язык уже редуцирован в калькуляционный дизайн куда радикальнее любых нигилистических поэтик, а мир человека подчинен цифрам, рекомбинируемым неверифицируемым вычислительным богом.
Дмитрий Голынко в своем недавнем докладе в Доме писателей поселка Комарово обозначил роль поэзии и искусства в ситуации нарастающего гипер-изоляционизма и
[1] Мадина Тлостанова. Семинар “Вспомнить Фуко”: «Как вернуть политическое воображение?» Несостоятельные теории, локальные практики и «мутопии» постдемократического мира.
[2] Сопроводительное письмо Алексея Масало́ва. URL: https://atd-premia.ru/2021/08/19/dordzhi-dzhaldzhireev-rossiya-elista/
[3] Волкова В.О., Малахова Н.В., Волков И.Е. — Имагинация: от образа к символу, от символа к тексту // Философская мысль. — 2020. — № 8. — С. 1 — 18. URL: https://e-notabene.ru/fr/article_33491.html#8
[4] Барт Р. — Миф сегодня. с. 72-132. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова.— М.: Прогресс, 1989 —
[5] "<…> стихотворение является темпоральным организмом или устройством, с самого начала простирающимся к собственному концу — существует, так сказать, некая эсхатология, присущая поэме. Но на то (более или менее короткое) время, что она длится, стихотворение обладает особой и ни на что не похожей темпоральностью, у него есть свое собственное время. Именно здесь рифма — словорифма в случае секстины — вступает в игру". Дж. Агамбен. Оставшееся время: Комментарий к Посланию к Римлянам — М.: Новое литературное обозрение, 2018. — с. 107.
[6] Хаким Бей. «Временные автономные зоны». URL: https://discours.io/expo/literature/essay/hakim-bey-temporary-autonomous-zone
[7] Дмитрий Голынко. «Калькуляционный дизайн современной поэзии в условиях технокапиталистического медиарынка». 9 сентября, 2021. Комарово, Дом писателей.
