Антон Ихсанов. Колониальные архивы по истории Центральной Азии: как мы учимся читать между строк
Статья исследователя-стажера ИГИТИ им А.В. Полетаева НИУ ВШЭ Антона Ихсанова по мотивам его одноименной лекции, прочитанной в рамках проекта «Ташкент-Тбилиси».
О методах работы со скрытыми значениями колониальных архивов Российской империи, которые вобрали в себя не только абстрактные числовые значения вроде динамики движения населения и товаров, но и большое количество перекрестных нарративов и сконцентрированных слухов. А также о нескольких примерах такой работы, дающих нам новый взгляд на историю и характер связей между Российской империей и Центральной Азией [1].

Предыстория
В 2017 г. в Бишкеке проходила совместная конференция Европейского общества исследований Центральной Азии (ESCAS) и Общества исследований Центральной Евразии (CESS).
Обычно, CESS в течение года проводит две конференции: региональную, призванную объединить исследователей из центральноазиатских институтов, и годовую, которую принимает один из вузов США. ESCAS, в свою очередь, проводит конференцию раз в два года, сосредотачивая усилия европейских специалистов на разработке различных тем, связанных с региональным измерением. В том году было принято решение объединить возможности обеих организаций и собрать единую площадку для обмена мыслями и контактами.
В ходе конференции, самым масштабным по количеству секций было историческое направление, причём обсуждения касались не столько эмпирического материала, сколько теоретических аспектов. Такой была и пятая секция, посвящённая «Чтению колониальных архивов: вдоль и между строк» (Reading the Colonial Archives in Central Asia: Along and Against the Grain). Состав участников секции действительно впечатлял. Председателем был назначен Тимоти Блауэлт (Государственный университет Ильи, Тбилиси [2]), оппонентом — Паоло Сартори (Академия Наук Австрии, Вена). Свои презентации должны были сделать Ян Кэмпбелл (Калифорнийский Университет, Дейвис), Александр Моррисон (Назарбаев Университет, Астана) и Чолпон Турдалиева (Американский Университет Центральной Азии (АУЦА), Бишкек) [3].
Собравшиеся в одной из самых больших аудитории АУЦА, значительную часть времени, действительно, посвятили не обсуждению старинных архивных фондов, а дискуссии относительно вопроса, заданного Беатриче Пенати (Назарбаев Университет, Астана). Доктор Пенати затронула тему преподавания методологии работы с колониальными архивами для студентов исторических направлений. Однако на выходе из аудитории обнаружилось, что для многих специалистов локальных институтов дискуссия оказалась не такой плодотворной. Их ожидания были связаны с эмпирическими и фактологическими данными, возможностью выявить новые фонды для дополнения своих работ. Представленная же дискуссия была для них чуждой.
Эта ситуация демонстрирует значительные разрывы и различия в работе с историческим материалом, которые формируют пёстрое пространство историографии региона и, безусловно, требует обращения к ядру этой дискуссии — колониальному архиву — как феномену, создающему многомерное пространство для интерпретаций и экспликации смыслов. Но достаточно лишь беглого взгляда на этот феномен, чтобы понять, что он имеет особые свойства, во многом определяющие те противоречия, с которыми сталкиваются исследователи в ходе своей работы.
Задача этой лекции и заключается в демонстрации на конкретных примерах ключевых вызовов, с которыми сталкиваются представители гуманитарных наук в попытках проанализировать данные колониальных архивов. Безусловно, данная лекция представляет лишь краткий и абстрактный экскурс в историю этого вопроса.
Архив
Начать следует с самого слова архив. Если мы обратимся к словарям русского языка, то обнаружим в них следующее определение этого понятия: «Архив — отдел учреждения, где хранятся старые документы; учреждение для хранения старых, старинных документов, документальных материалов; собрание рукописей, писем и т. п., относящихся к деятельности какого-нибудь учреждения, лица» [4].
Это определение уходит корнями в эпоху создания первых архивных учреждений современного типа, появившихся после 1790 г. для систематизации и централизации бумаг после Великой Французской Революции [5]. Социально-политическая структура архива стала доминирующим методом организации общности документов. Когда в 1889 г. в Германии появились первые культурные архивы (Архив Гёте и Шиллера в Веймаре), основанные на идее «культурной нации», то есть на развитии идентичности исходя из общности культурных феноменов, их организация по-прежнему определялась социально-политическим видением архива. Именно в такой форме архив получил обоснование в качестве главного источника сведений для исторической науки. Идею «беспристрастности» архивного знания, изучение которого является нормативной работой историка, выдвинул прусский историк Леопольд фон Ранке (1795-1886) [6]. Идеи Ранке были связаны с формированием позитивизма, как системы познания, одержимой «культом фактов» и эмпирической доказуемостью.
В течение последующего XX столетия, эти идеи подверглись критике научного сообщества. Существуют различные описания этого процесса, но, видимо, одними из первых сомнения в доминировании эмпирики высказали представители школы Анналов, группы исследователей, работавших в Университете Страсбурга в период между двумя Мировыми войнами. В СССР бунт против «архивного фетишизма» приписывают Михаилу Яковлевичу Гефтеру (1918-1995) и датируют 1955 г. Отдельные дискуссии стали развиваться и в среде самих архивистов, связанные с необходимостью понимания: что должно стать частью архива и как определить ценность источника, содержащегося в архиве? [7] К середине XX в. становится очевидным, что эмпирическая документальная архивная практика иллюзорна. Архив не только формирует онтологическое поле, но и архивирует себя. Тем самым, архивное знание представляет собой переплетение тропа, который объединяет различные смыслы данности материала, объекта исследования и рефлективности относительно собственной структуры [8].
Эта семантическая неопределённость между понятием и метафорой была актуализирована в «Археологии знания» Мишеля Фуко (1926-1984), для которого архив стал представлять «особую область исследования производства, поддержания и обоснования исторического знания. Эта область характеризуется целенаправленной кластеризацией проблем: правил языковых игр, в которых возникали документы, условий хранения с точки зрения картотеки и индексации, материальных аспектов архивной работы, рабочих практик исторических исследований». Для Фуко, архив — надтемпоральная структура, в основе которой лежит власть порядка и которая определяет произносимое и невысказанное. Одна из ключевых проблем в его работах, впрочем, связана с восприятием категории «мы». Архив — это структура аффилированная с социальным производителем знания, поддерживающая стабильность воспроизводства дискурсов. Уже в самом факте появления Национального Архива во Франции и его социально-политической структуре кроется вопрос власти (и производный от него — вопрос насилия) [9]. Вопрос власти/подчинения обнаруживается, в частности, в методах группировки и иерархизации материала. Подобная ситуация приводит к восприятию архива как субъекта, что, под влиянием идей антропологии, формирует базу для «архивного поворота» в мировой историографии [10].

Вторым значимым автором для изучения этого «поворота» является Жак Деррида (1930-2004). В своей книге 1995 г. «Архивная лихорадка: фрейдианское восприятие» (Mal d’Archive: Une Impression Freudienne), этот философ ещё более заостряет фокус, заданный Фуко. В частности, архив рассматривается с позиции психоанализа Зигмунда Фрейда (1856-1939), то есть в качестве «первичной сцены», наносящей травму и определяющей поиск истоков. Потому, крайне важным оказывается двойственность термина arché, лежащего в основании самого понятия «архива» и имеющего два измерения — онтологический (определяющий бытие) и номонологический (определяющий закон и его толкование). Для Деррида значимым является понятие «памяти». Архив экстериоризирует память, то есть переводит «системы и сцены писания» во внешний мир, создавая абсолютную форму текстуальности [11]. Тем самым, если мы соединим власть и память, то обнаружим, что «специфическая архивная экстериоризация памяти — это функция властей категоризации и командования; архивный порядок — это функция доминирования через классификационную агентуру». Деррида придаёт этой функции мессианские свойства, то есть указывает на ощущение стабильность воспроизводства «наших» оснований, впрочем, оговариваясь о гипомнезии — ослаблении и затухании памяти [12]. Эти свойства можно обнаружить, изучая представленные им «первичные сцены», во многом, иронизирующие над устойчивой для европейской семитологии периода классицизма дихотомией Афин и Иерусалима, как двух возможных источников европейской цивилизации. Сам Деррида за счёт иронии пытается обойти эти стабильные основания [13].
Рост влияния критических теорий, в частности, пост-колониальный теории [14], и обретение голоса группами, прежде не имевшими его, привело к вызову идее «нашего» архива. Метапамять, экстериоризированная в стенах архивных учреждений, подверглась анализу со стороны контрпамяти этих групп [15]. Развитие «архивного поворота» к 2000-м гг. привело к слиянию институциональной базы европейского архива (который, в действительности, является лишь одной специфической формой) и эпистемических условий, обозначенных выше, при сохранении концепций «первичных сцен». Всё это вызывает вопросы относительно продолжения развития архивной теории уже в XXI в. [16] Потому внимание исследователей привлекают как критические теории, способные ещё больше углубить наши представления о механизмах работы с материалами, так и нетрадиционные формы архивов, показывающие сочетание системности и бессистемности.
Ярким примером такого архива являются собрания эпиграфики, которые немецкий историк Хеннинг Трюпер (Лейбниц-Центр исследований литературы и культуры, Берлин) назвал «диким архивом». С одной стороны (системности), они подчиняются законам индексации и группировки (но основополагающим критерием здесь становится географическая локализация памятников) и являются чистым выражением текстуальности. С другой стороны (бессистемности), эти архивы динамичны, то есть, они могут изменяться
Примерами таких «диких архивов», в исследованиях которых принимают специалисты из региона, являются тюркские рунические памятники [17] и эпиграфика в архитектурном ландшафте Центральной Азии. Последний «дикий архив» был в последние несколько лет тщательно исследован Бахтияром Мираимовичем Бабаджановым (Ташкентский государственный университет востоковедения, Ташкент), опубликовавшим ряд работ о нём как в Узбекистане, так и за его пределами [18]. Бахтияр Мираимович же принимал участие в исследовании ещё одного интересного типа архива — «перформативного», — то есть создаваемого самим сообществом, которое и становится его первым архивариусом, оказывая влияние на процесс отбора и классификации материала. В частности, при его участии было подготовлено издание прений между мусульманскими богословами советской Центральной Азии [19].
Возвращаясь к теоретическим вопросам, на сегодняшний день перед исследователями стоит огромное пространство возможностей и методов работы с архивными материалами: от вопроса референций (отсылающих к базовой для академического знания проблеме платоновской пещеры) до проблем экологии архива (функционирования документов в рамках фонда, в контексте отношений между различными делами и файлами). Собственно, одной из проблематик, связанных с современным этапом исследования архивов, является изучение колониального знания.
Колониальное знание
Эпоха модерна в середине XIX — начале XX вв. оказала существенное влияние на развитие мировосприятия. Это влияние охватывало фактически всё мировое пространство и сохраняется до сих пор [20]. Этот период был эпохой колониальных империй, изучение которых обозначило начало «имперского поворота» в мировой историографии на рубеже 1980-1990х гг. как результат развития пост-колониальных исследований, что привело к появлению новых категорий анализа и иной оптики на само имперское образование. В русскоязычной историографии этот «поворот» явственно проявился в 2000е гг. под влиянием двух журналов — Ab Imperio и Новое литературное обозрение.
Империя стала рассматриваться как способ управления многообразием, возникший в европейский период Нового времени (XVI-XX вв.) и основанный на попытке замены эпистемологического режима на колонизированных территориях [21]. Под эпистемологическим режимом понимается довольно обширный набор вопросов. В частности, изменение восприятия времени и пространства [22]. Одной из идей, выдвинутых этой эпохой была и «лестница прогресса», обосновавшая колониальную политику империй. Эта идея, во многом, была связана с большим нарративом той эпохи — «верой в прогресс» — и усилена разработками естественных наук, в частности, работами Чарльза Дарвина (1809-1882). Согласно этой концепции, различные народы и культуры находились на разных ступенях «прогресса» и должны были преодолеть своё отставание, изменяясь в рамках универсальных законов человечества [23]. Универсализм требовал классификации и иерархизации сообществ, подчинению их власти «прогресса», чтобы было невозможно без знания о сообществах и исследований их истории [24]. При этом, методологическая основа формирования такого знания была основана на триединстве текстуальности (все явления социальной и культурной жизни превращались в текст, а, значит, объект изучения, что вело к потери субъектности и агентности), эстетики (фокус исследования был направлен на поиск идеальных, чистых типов) и сломанного темпорального плана (древность смешивалась с настоящим) [25]. Всё это приводило к возникновению «режима непонимания» (regime of ignorance) [26], когда восприятие колониальной реальности основывалось на наборе доминирующих нарративов, а сами местные сообщества воспринимались объектами воздействия. В результате колониальное знание, сохранённое в архивах империй, оказавшись в фокусе критических теорий уже к концу XX в. претерпело процесс деконструкции.

Впрочем, сам этот процесс также был связан с существенными противоречиями. Во-первых, попытка нивелирования значения этих материалов до уровня «колониальных фантазий» привела к потере значимости колониального знания в процессе принятия политических решений. Иными словами, был редуцирован потенциал влияния этого знания на реальный мир. Во-вторых, сама попытка отвергнуть эти источники
В этой лекции в фокусе внимания находятся примеры, связанные с историей связей между Российской империей и Центральной Азией. Инициированная несколькими коллегами дискуссия о колониальности имперской политики в регионе связана именно со структурой архивного знания и власти архива, а конкретно показанный выше вопрос сложности его создания и функционирования [28]. В целом, колониальный характер имперской администрации хорошо теоретически обоснован и определён [29]. Иной вопрос заключается в попытке рассмотрения Советского Союза в качестве колониальной державы и деятельности уже советских структур в Центральной Азии. Эта дискуссия обширна и разветвлена [30]. Если для центральноазиатских специалистов её центральным ядром является «эпистемологический режим», который выражен модернистскими концепциями, для описания и преподавания которых использовался русский язык [31], то другие специалисты отмечают как противоречивое содержательное наполнение Союза, которое, безусловно, имеет некоторый колониальный элемент [32], так и многочисленные разрывы в самом знании, производившимся в рамках этого государственного образования. Перечисление всех концептуальных споров, конечно, не может быть представлено в рамках настоящей статьи. В целом, я солидарен позиции Никколо Пьянчола (Назарбаев Университет, Нур-Султан), высказанной в ходе недавнего семинара в Оксфордском Университете, о том, что сама постановка вопроса «а была ли Центральная Азия колонией Советского Союза» — непродуктивна, поскольку приводит к редукции всей гетерогенной структуры функционирования советских институтов.
Однако, с точки зрения архивных исследований, как мне кажется, вопрос функционирования советских архивов, действительно, должен рассматриваться с привлечением представленной методологии. Советские архивы имели значительно большую власть, чем имперские, поскольку были основной учёта населения [33], исследовали его идентичность и процесс её флуктуаций и изменений, а разработанные нарративы, несмотря на все противоречия «взгляда уполномоченного», становились звеньями формирования советской реальности [34]. Потому при рассмотрении советских архивов значимость получают антропологические и социологические концепции, прежде всего, субъективность, поиск которой в рамках колониальных архивов чрезвычайно важен для понимания и современного мира.
Власть нарративов: Хорезм и Россия, шпиономания
В данном разделе я постараюсь кратко пройтись по нескольким примерам, которые подробнее раскрывают представленную выше теоретическую перспективу. Первые два примера иллюстрируют продуктивные возможности нарративов, сформулированных архивным знанием.
В российской историографии существует классическое утверждение, что в 1700 г. Пётр I (1672-1725) принял прошение о вассалитете Хивинского ханства, направленное ему Шах-Ниязом. Однако, российские экспедиции в Хорезм были «коварно» преданы (во многом,

Современные российские исследователи, в частности, Марк Альвиевич Козинцев (Институт Восточных Рукописей РАН, Санкт-Петербург), анализировавшие материалы посольских документов, обратили внимание, что в них речь о «подчинении» не идёт, а правители Хорезма позиционируют себя партнёрами Российской империи [36]. В целом, идея «подчинения» была поставлена под сомнение Артёмом Алексеевичем Андреевым (Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург), который отметил вообще недооценку этого направления российской внешней политики в
Другой подход к этой проблеме продемонстрировали представители Австрийской Академии Наук Паоло Сартори и Ульфат Абдурасулов, которые реализовали проект «Смотря как на архив: документы и формы управления в Исламской Центральной Азии в
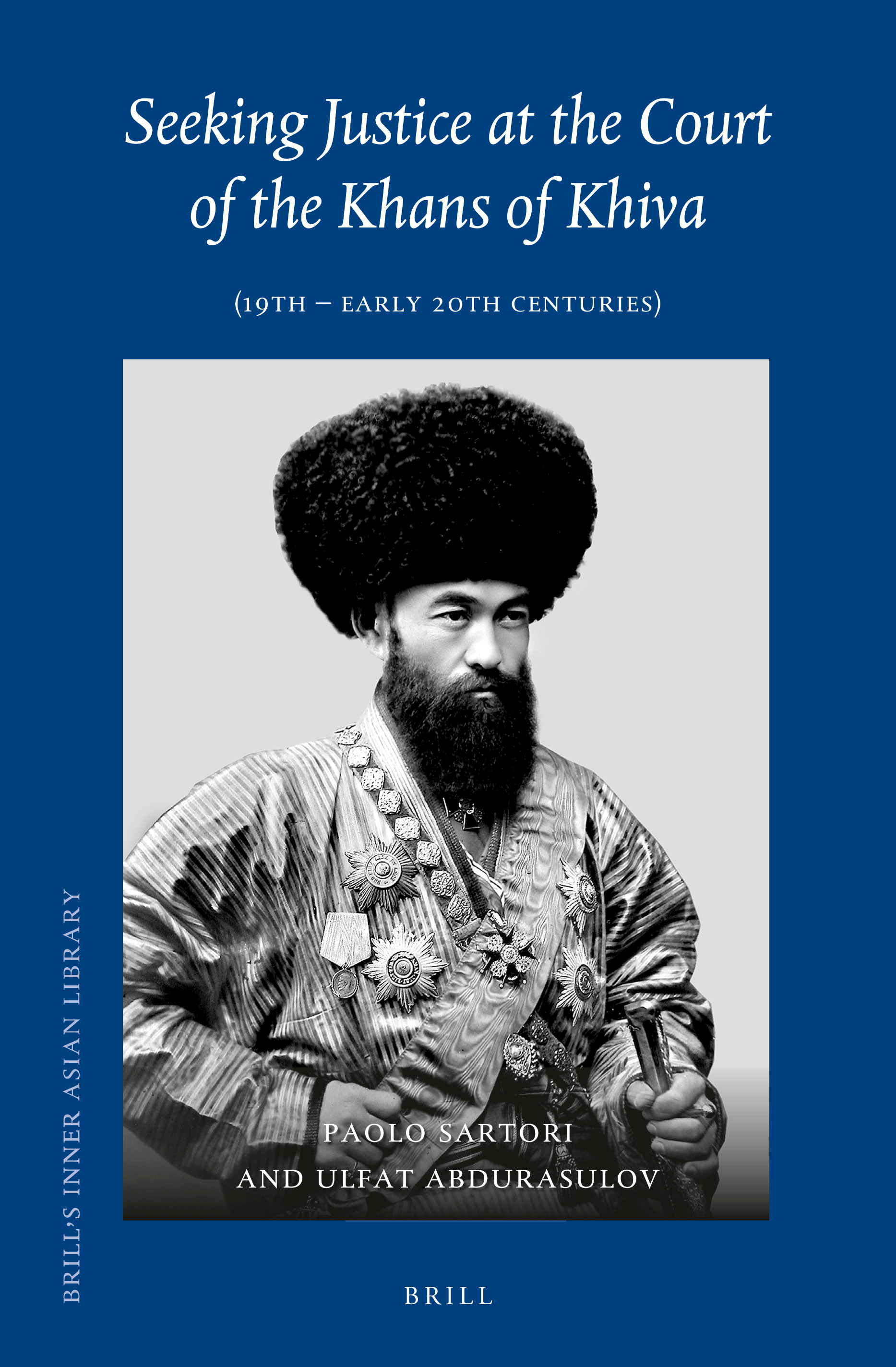
Конструируемый нарратив, фактически, «умолчал» реальный масштаб взаимодействия между государствами, проигнорировав целую череду посольств и взаимный торговый обмен [39]. Историки, в свою очередь, ссылались на публикации, созданные в пространстве этого нарратива, а потому способствовали его дальнейшему воспроизводству.
Схожая история связана и с проблемой «шпиономании», достаточно широко представленной в российских архивах, особенно, в фондах времён Первой Мировой Войны и в период 1920-1930х гг. Это явление можно рассматривать с двух позиций — во-первых, референтивного значения, то есть, попытаться связать тексты и их смысловое содержание с реальными событиями; во-вторых, с точки зрения самого механизма конструирования нарратива. Первая задача осложняется властью нарратива, доминирование которого создаёт запутанную и противоречивую картину, в центре которой находятся не реальные события, а циркуляция слухов и эмоциональные переживания (особенно, страх) [40]. Любая же попытка радикальной деконструкции этого нарратива грешит двойственностью и противоречивостью. С этим, к слову, связана и известная тенденция работы российских исследователей помещать в фокус своих исследований процессы глобального характера, которая приводит к лишению жителей региона субъектности и агентности, что провоцирует справедливую критику со стороны локальных академических сообществ.
Второй же подход обнаруживает более плодотворную почву для своей реализации. В частности, он позволяет ответить на вопрос — являлась ли «шпиономания» — устойчивым механизмом описания «Другого», тем, о чём говорится в «Ориентализме» Эдварда Саида (1935-2003), и взглянуть по-новому на саму внутреннюю политику России в контексте внутренней колонизации. В Центральной Азии голоса против нарратива «шпиономании» раздались ещё в 1906 из уст Николая Фёдоровича Петровского (1837-1908), бывшего русского консула в Кашгаре, критиковавшего обоснование восстание Дукчи-ишана 1898 г. колониальной администрацией с позиции «неблагонадёжности мусульман», и в 1911 гг. со стороны министра иностранных дел Сергея Дмитриевича Сазонова (1860-1927), назвавшего подобные заявления «базарными слухами». Впрочем, они и сами прекрасно владели тем дискурсом, который критиковали и умели применять его в дискуссиях со своими соперниками [41].
Как бы то ни было, этот нарратив существует до сих пор и его проблематика, обоснованная, в том числе, и властью колониального знания, представляет из себя большое поле для исследовательской работы.
Власть каталога: фотографические коллекции Александра Николаевича Самойловича

Каталог — как выразитель власти классификации и иерархизации также является значимым фактором работы с колониальным знанием. Я столкнулся с ним, когда описывал фотографические коллекции русского тюрколога Александра Николаевича Самойловича (1880-1938). Как указывалось выше, в эпоху доминирования позитивизма эмпирическая доказуемость была одним из ключевых элементов исследования. Самойлович стремился максимизировать эту идею, составляя сложную взаимозависимую систему из фотографий (визуальных образов), собрания артефактов (этнографического материала), интервью с информантами и текстовых документов. На ранних этапах его работы, к ним прибавлялись и попытки создания аудио-записей. Всё это вместе суммировалось и анализировалось уже в его исследовательских работах.
В 1906 г. тюрколог совершил вторую экспедицию в Центральную Азию, преимущественно базируясь в селении Агыр-баш (современный посёлок Шордепе) недалеко от Мерва (современный город Мары). Вернувшись в Петербург, он сдал материалы в Музей Антропологии и Этнографии, в котором коллекция была зарегистрирована и описана Клавдием Васильевичем Щенниковым в 1909 г. на базе заметок Самойловича на полях паспарту и
Краткость каталога МАЭ РАН приводит к редукции социальных отношений, особенностей развития туркменского общества того периода — и приводит к появлению новых смыслов. Так, показанная Самойловичем жизнь довольно узкой группы туркмен — секретарей-переводчиков колониальной администрации и «нарождающейся туркменской буржуазии» (как её именовал сам исследователь) — становилась обобщённым восприятием вообще всего туркменского быта начала XX в. [42]
Овеществлённая встреча: язык и культура туркмен в имперских дискурсах
Последний пример, как мне кажется, показывает все составляющие колониального знания.
В 2020 г. историк Аллен Франк опубликовал свой критический обзор [43] работы исследовательницы Виктории Клемент «Учиться, чтобы стать туркменом: грамотность, язык и власть, 1914-2014» (Learning to become Turkmen: literacy, language, and power; 1914-2014) [44]. Книга Клемент основана на попытке показать влияние дискуссий внутри туркменского сообщества на формирование видения своей культуры и государства (во многом эта попытка базируется на уже разработанной методологии работ историка Адиба Халида [45]). В качестве базового источника для первых глав работы Клемент выступает «Закаспийская туземная газета», издававшаяся сокурсником уже упомянутого Александра Николаевича Самойловича, тюркологом Иваном Александровичем Беляевым (1877 — предположительно 1920) и превращённая туркменами в площадку для дискуссий. Работа Франка помещает в фокус внимания другой источник — номенклатуру туркменских учебников той эпохи, созданную всё тем же Беляевым [46]. Вычленяя из неё «Равнак аль-Ислам», в качестве базового пособия, Франк указывает на общность региональных образовательных программ и связанность эпистемологического пространства. Эту идею развивает далее Паоло Сартори, обращаясь к феномену вернакуляризации, переводу на местные языки источников исламского знания для их распространения среди населения и повышения уровня юридического сознания. «Равнак аль-Ислам» и был одним из таких «диалектных изданий» [47].

Однако, необходимо обратиться к работе Беляева, которая сыграла определённую роль в этих рассуждениях. Всё дело в том, что изначально этот тюрколог занимался совсем не туркменами, а каракалпаками. Однако, в отличии от своего однокурсника Самойловича, сделавшего карьеру в академическом сообществе Петроградского университета, Беляев был инспектором учебных заведений Туркестана. При этом, он стремился исполнить заказ руководства края на создание учебных пособий по туркменскому языку [48], соревнуясь со своим однокурсником-оппонентом, с которым прежде оспаривал право на наследие их усопшего учителя Платона Михайловича Мелиоранского (1868-1906). Беляев использовал для этого Ташкентский учительский институт и двух его представителей — дагестанского и туркменского учителей Алишбека Алиева (1883-1933), имевшего опыт работы в туркменских школах, и Мухамметгулы Атабаева (1885-1916) [49], которые собирали сведения и помогали составлять учебные пособия и словари. Они же были авторами и помощниками редактора в «Закаспийской туземной газете» (повторявшей структурно «Туркестанскую туземную газету», которую в те года редактировал Николай Петрович Остроумов (1846-1930), директор Учительского института). Тем самым, можно отметить, что Беляев копировал ташкентские модели организации, используя цепочку деятелей, аффилированных с колониальными институтами.
13 (26) октября 1913 г. Самойлович опубликовал суровую рецензию на книгу Алиева «Туркменская речь. Звуковой метод обучения в туркменской школе» в газете «Санкт-Петербургские Ведомости». Обращался тюрколог, однако, не к автору, а к редактору, которым был Беляев. Эта статья была перечитана в газете «Асхабад» и стала поводом для дискуссии, продлившейся до января 1914 г. В дискуссии помимо указанных выше людей участвовали ещё двое — Александр Александрович Ломакин, бывший инспектор учебных учреждений края, и некто «С. Сердар», который, вероятнее всего, был псевдонимом, за которым скрывался Самойлович [50]. Параллельно, развязалась дискуссия между журналами «Записки Восточного Отделения Русского Археологического Общества» и «Шуро» (Совет) по вопросу исследования литературного наследия туркменского поэта Махтумкули Фраги (1724-1811). В дискуссии принимали участие учитель и знаток тюркской литературы Ахмед Заки Валидов (1890-1970) и Самойлович.
Анализируя эти дискуссии, если опустить обращение участников к личностям друг друга, необходимо отметить несколько деталей. Во-первых, они все представляют разные образы и видения туркменской культуры, начиная от иранского наследия (в случае Ломакина и Самойловича) и части тюркского ареала (Валидов) до культуры со скрытым смыслом, познать которую возможно только при посредничестве самих туркмен (Самойлович). Каждый из участников дискуссии видел свои цели и задачи в обращении к языку и литературе туркмен — Валидов критиковал востоковедение как систему знания, Беляев настаивал на необходимости приобщения кочевых племён Закаспийской области к имперской идентичности, Самойлович указывал на задачи русского просвещения, а также на собственные «интересы» туркменского языка. Эта атмосфера соперничества и разрозненности нарративов — создала те условия, в которых и появились на свет газета и брошюра Беляева «Мектебы Закаспийской области», к которым и обращались американские специалисты.
Может ли этот факт позволить нам отвергнуть работы Клемент и Франка, как построенные на фантазиях колонизаторов? Ответ в данном случае будет отрицательный. Если мы вновь обратимся к тексту статей и писем, то увидим, что практически каждый участник дискуссии легитимизирует свои слова, обращаясь к «Другим»: «Что же касается до того, на каком наречии изложено предисловие, то за этим г[осподин] Ломакин пусть обращается к туркменам же, которые, просматривая это предисловие, переделывали таковое по-своему и нашли его вполне понятным для туркмен» (Алиев), «Г[оспода] хорошо грамотные по-своему мусульмане! Отдаю на суд вам следующую фразу со стр[аницы] 56 «Туркменской речи» (Ломакин). Наконец, использование туркменского псевдонима лишь подтверждает значимость информантов и корреспондентов, не только принимавших участие в составлении этих пособий и словарей, но и имевших возможность анализировать тексты в пространстве культурного билингвизма [51]. Имена информантов Самойловича и Беляева _ Ходжели-молла Мурат-Берды-оглы, Сабыр-молла Союн-оглы и других — сохранили страницы их статей и дневников, их собственноручно написанные письма и сборники стихов. Этот архивный материал позволяет овеществить эту встречу, ставшую поворотной для многих её участников.
Заключение
Несмотря на всю эклектичность представленного материала, я попытался рассказать о колониальных архивах и способах работы с ними. Методология работы с архивом сильно изменилась и стала областью междисциплинарных разработок, направленных на изучение весьма сложных структур власти и подчинения, воспоминания и затухания памяти, кросскультурных контактов и оппозиций. Колониальное знание, заключённое в стенах этих институтов представляет собой артефакты, свидетельствующие о встрече и обмене, конфликтах и союзах, создании нарративов и фантазий, реальности политических решений и конструирования идентичностей. Эти осуществлённые доказательства экономики знания по-прежнему имеют власть и способны оказывать влияние на наше видение современности. Работа над ними ведётся в глобальном масштабе.
За последние несколько лет многочисленные изменения произошли и в архивном деле Центральной Азии. В 2020 грант Агентства США по международному развитию (USAID) получили Библиотека конгресса США и Национальный институт языка, литературы и рукописей имени Махтумкули Фраги Академии наук Туркменистана, которые займутся реставрацией и цифровизацией центрально-азиатских фондов. Так же грант Немецкого научного общества (DFG) получил Центр изучения современного Востока в Берлине (ZMO) и Архивное управление Узбекистана (O’zarxiv agentligi) для каталогизации и оцифровки фондов узбекских архивов. Архивы стали публиковать материалы в сети, демонстрировать их в ходе телепередач. На повестке дня стоит вопрос взаимодействия публичного и академического исторического знания. Например, в Казахстане и Кыргызстане появились центр современной культуры «Целинный», центр «Эсимде», региональный культурный центр «Айгине», которые активно публикуют и исследуют архивные материалы.
Однако, разработка методов работы с архивами всё ещё стоит на повестке дня. Британские специалисты, например, предлагают самим пользователям архивов участвовать в разработке каталогов, внося в них данные о своих исследованиях [52]. Это позволило бы ограничить власть нарративов, создать условия для связанности в рамках архивной экологии. Всё больше внимания привлекает вопрос ограниченности использования европейского методологического аппарата, который изучается, в частности, в рамках семинара «Фронтиры гуманитарного знания в XXI веке» Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева НИУ ВШЭ. Появился и международный проект «Theory from the margins», перемещающий фокус нашего внимания на теоретические разработки «Глобального Юга».
Исследователям ещё предстоит большая работа по исследованию механизмов формирования и циркуляции знания, которая будет зависеть от связи с этикой и моральными теориями. Эта задача может быть решена только в рамках транснационального академического сообщества, в атмосфере обмена и взаимного уважения.
Примечания
[1] Автор благодарит Александра Моррисона, Хеннинга Трюпера и Ольгу Юрьевну Бессмертную за важные указания в процессе написания лекции.
[2] Все аффилиации указаны на 2017 г.
[3] Conference Program: Joint ESCAS-CESS Conference June 29 — July 2, 2017 (Bishkek: American University of Central Asia; Central Asian Studies Institute, 2017)
[4] Ожегов, Сергей Иванович, Шведова, Наталия Юльевна, Толковый словарь русского языка (Москва, 2010).
[5] Хотя теоретизация архивного знания велась с XVI в.
[6] Копп-Оберштебринĸ, Герберт, Шипке, Катя, «Понятие “архив” между теорией и практикой», Trajekte, № 34 (Апрель 2012): 16 — 20. URL: https://urokiistorii.ru/article/51650 (дата ознакомления: 01.03.2021).
[7] Под «архивным фетишизмом» понимается легитимизации статуса источника через его «обретение» архивом.
Браткин, Дмитрий, Отзыв на: Sonja Luehrmann, Religion in Secular Archives: Soviet Atheism and Historical Knowledge (Oxford and New York: Oxford University Press, 2015), Ab Imperio, № 1 (2017): 417-433.
[8] Trüper, Henning, «The Archive of Epigraphy», Orientalism, Philology, and the Illegibility of the Modern World (London: Bloomsbury Academic, 2020): 97–162.
[9] Ibid.
[10] Браткин, Дмитрий, Отзыв на: Sonja Luehrmann, Religion in Secular Archives: Soviet Atheism and Historical Knowledge (Oxford and New York: Oxford University Press, 2015), Ab Imperio, № 1 (2017): 417-433.
[11] Prescott, Andrew, The textuality of the Archive, What are archives? : cultural and theoretical perspectives (Ashgate Publishing Limited, 2008): 31-53.
[12] Копп-Оберштебринĸ, Герберт, Шипке, Катя, «Понятие “архив” между теорией и практикой», Trajekte, № 34 (Апрель 2012): 16 — 20. URL: https://urokiistorii.ru/article/51650 (дата ознакомления: 01.03.2021).
[13] Trüper, Henning, «The Archive of Epigraphy», Orientalism, Philology, and the Illegibility of the Modern World (London: Bloomsbury Academic, 2020): 97–162.
[14] Бессмертная, Ольга Юрьевна, Взгляд из прошлого. Представления о Другом, или как изучать Другого: некоторые тенденции постколониальных исследований и «исторического поворота» глазами постсоветского африканиста (1999), Шаги, № 3 (4), (2018): 195-212.
[15] Браткин, Дмитрий, Отзыв на: Sonja Luehrmann, Religion in Secular Archives: Soviet Atheism and Historical Knowledge (Oxford and New York: Oxford University Press, 2015), Ab Imperio, № 1 (2017): 417-433.
[16] Копп-Оберштебринĸ, Герберт, Шипке, Катя, «Понятие “архив” между теорией и практикой», Trajekte, № 34 (Апрель 2012): 16 — 20. URL: https://urokiistorii.ru/article/51650 (дата ознакомления: 01.03.2021).
[17] Кляшторный, Сергей Григорьевич, Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии (Москва: Наука, 1994).
[18] Бабаджанов, Бахтияр Мираимович, Эпиграфика в архитектурном ландшафте Хивы: мечети, погребальные комплексы, медресе, дворцы, ворота, в двух частях (Wien: Austrian Academy of Sciences, 2020).
Так же серия «Архитектурная эпиграфика Узбекистана» (O’zbekiston obidalaridagi bitiklar; 2015-2016).
[19] Бабаджанов, Бахтияр Мираимович, Муминов, Аширбек Курбанович, фон Кюгельген, Анке, Диспуты мусульманских религиозных авторитетов в Центральной Азии в ХХ веке (Алматы: Дайк-Пресс, 2007).
[20] Elshakry, Marwa, Reading Darwin in Arabic, 1860-1950 (The University of Chicago Press, 2013).
[21] Герасимов, Илья, Глебов, Сергей, и др., Новая имперская история постсоветского пространства: сборник статей (Казань: Центр исследования национализма и империи, 2004).
[22] Стеблин-Каменский, Николай, Рецензия на: Fabian, Johanness, Out of Our Minds: Reason and Madness in the Exploration of Central Africa (University of California Press, 2000). URL: https://easteast.world/posts/182?fbclid=IwAR1XQQnJJRFCsxihYLCxtZjf_u7TDGDOQfosoIxBml7JT1AXiX3RkKxj8Ig (дата ознакомления 01.03.2021).
[23] Бессмертная, Ольга Юрьевна, «Понимание истории и идентичность автора в возражениях Атауллы Баязитова Эрнесту Ренану», Islamology, Том 9, №1-2 (2019): 54-82.
[24] Эта идея, например, играла важную роль в исследованиях русского востоковеда Василия Владимировича Бартольда (1869-1930), для которого поиск универсальности, точки отсчёта контактов «Запада» и «Востока», особенно в области торговли, был едва ли не центральным нарративом собственных размышлений.
Ананьев, Виталий Геннадьевич, Бухарин, Михаил Дмитриевич, «Имена, которые никогда не будут забыты…». Российское востоковедение в переписке В.В. Бартольда, Н.Я. Марра и С.Ф. Ольденбурга (Москва: Варфоломеев А.Д., 2020).
Батунский, Марк Абрамович, Ислам в России: том третий (Прогресс-традиция, 2003).
[25] Для Хеннинга Трюпера, именно в области восприятия темпоральности и лежит главное различие между экспертным знанием и академическим (востоковедным). Поскольку, первое оперирует восприятием настоящей реальности или эволюционной цепочкой, в то время, как во втором — возможен слом линии времени.
Trüper, Henning, «Introduction: History in Meaning», Orientalism, Philology, and the Illegibility of the Modern World (London: Bloomsbury Academic, 2020): 1–24.
[26] Sartori, Paolo, «A Sound of Silence in the Archives: On Eighteenth-Century Russian Diplomacy and the Historical Episteme of Central Asian Hostility», Itinerario, Volume 44 , Special Issue 3: Beyond the Islamicate Chancery: Archives, Paperwork, and Textual Encounters Across Eurasia (December 2020): 552 — 571.
[27] Roque, Ricardo, Wagner, Kim, «Introduction: engaging colonial knowledge», Engaging Colonial Knowledge: Reading European Archives in World History (Palgrave Macmillan, 2011): 1-35.
[28] Котюкова, Татьяна Викторовна, Окраина на особом положении… Туркестан в преддверии драмы (Научно-политическая книга, 2016).
[29] Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: онтология (Москва: Новое издательство, 2005).
В последние годы актуализирован и вопрос сравнительных исследований. В частности, компаративисты сравнивают процесс образования «общеимперской идентичности» в ядре империй и развитие «бунта идентичности», построенной по образцу имперской, на периферии.
Miller, Alexei, Berger, Stefan, Nationalizing Empires (Central European University Press, 2014).
[30] Chari, Sharad, Verdery, Katherine, «Thinking between the Posts: Postcolonialism, Postsocialism, and Ethnography after the Cold War», Comparative Studies in Society and History, Vol. 51, No. 1 (Jan., 2009): 6-34.
[31] Kassymbekova, Botagoz, Despite Cultures: Early Soviet Rule in Tajikistan (The University of Pittsburgh Press, 2016).
[32] Абашин, Сергей Николаевич, «Советское = колониальное? (за и против)», Понятия о советском в Центральной Азии (Бишкек: Штаб-Press, 2016).
[33] Фицпатрик, Шейла, Срывайте маски!: Идентичность и самозванство в России (Москва: Росспэн, 2011).
[34] Браткин, Дмитрий, Отзыв на: Sonja Luehrmann, Religion in Secular Archives: Soviet Atheism and Historical Knowledge (Oxford and New York: Oxford University Press, 2015), Ab Imperio, № 1 (2017): 417-433.
[35] Богатуров, Алексей Демосфенович, Международные отношения в Центральной Азии: события и документы (Москва: Аспект Пресс, 2011).
[36] Козинцев, Марк Альвиевич, «Грамота Хивинского хана Шир-гази царю Петру I: Предисловие, публикация, примечания», Письменные памятники Востока, том 15, No 2, (2018): 5–24.
[37] Андреев, Артём Алексеевич, «Российско-хивинские отношения в конце XVII — начале XVIII в. Декларативная «шерть» или реальное подданство?», Петербургский исторический журнал, №2, (2015): 16-30.
[38] Sartori, Paolo, «A Sound of Silence in the Archives: On Eighteenth-Century Russian Diplomacy and the Historical Episteme of Central Asian Hostility», Itinerario, Volume 44 , Special Issue 3: Beyond the Islamicate Chancery: Archives, Paperwork, and Textual Encounters Across Eurasia (December 2020): 552 — 571.
[39] Частично эти материалы были опубликованы Астраханским областным архивом в 2014 г. в связи с Саммитом Прикаспийских государств.
[40] Stoler, Ann Laura, «‘In cold blood’: hierarchies of credibility and the politics of colonial narratives», Engaging Colonial Knowledge: Reading European Archives in World History (Palgrave Macmillan, 2011): 35-67.
[41] Бессмертная, Ольга Юрьевна, «Алые розы Востока»: «панисламизм», ориентализм и шпиономания в последние мирные годы Российской империи. Разведывательная империя?», Шаги, Т. 4, № 1 (2018): 9-44.
[42] Ikhsanov, Anton, «The photographic legacy of Alexander N. Samoilovich (1880-1938)», The «Other» Turkestan: unknown photos of the Asian periphery of the Russian Empire (forthcoming).
[43] Frank, Allen, «Turkmen Literacy and Turkmen Identity before the Soviets: the Ravnaq al-Islām in Its Literary and Social Context», Journal of Economic and Social History of the Orient, 63 (2020): 286-315.
[44] Clement, Victoria, Learning to Become Turkmen: Literacy, Language, and Power; 1914-2014 (University of Pittsburgh Press, 2018).
[45] Khalid, Adeeb, Making of Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR (Cornell University Press, 2015).
[46] Беляев, Иван Александрович, Мектебы Закаспийской области : Статистический очерк туркменской низшей школы (мектеб) по данным анкеты 1915-16 г. (Асхабад: типография И.И. Александрова, 1916).
Беляев подготовил анкеты для отправки в подотчётные ему школы, хотя часть материалов брал из статистических обзоров области и материалов сенатской ревизии. В самой книге приведены лишь наиболее заинтересовавшие автора ответы, суммарная оценка и образец анкеты.
[47] Sartori, Paolo, «Between Kazan and Kashghar: On the Vernacularization of Islamic Jurisprudence in Central Eurasia», Die Welt des Islams (2020): 1-31.
[48] Соегов, Мурадгелди, «О деятельности одного любительского кружка, функционировавшего в Aшхабаде в 1903 — 1906 и 1914 — 1917 гг.», Jazyk a kultúra, № 21-22, (2015): 112-120.
[49] Соегов, Мурадгелди, «К 90-летней годовщине выхода в свет первой туркменской научной грамматики и туркменского переводного словаря», Miras, № 3 (75), (2019): 39-55.
[50] В статье используются слова исключительно из тех регионов, где работал Самойлович (Челекен и Мерв), присутствует дискуссия о написании арабице букв «ч» и «дж», характерная для ранних работ исследователя. Наконец, ссылку на «тедженское происхождение» автора можно связать с общением тюрколога с туркменским студентом Императорского университета Какаджаном Бердыевым (род. 1891), активно содействовавшим деятельности Самойловича в Петербурге.
[51] Бессмертная, Ольга Юрьевна, «Только ли маргиналии? Три эпизода с “мусульманским русским языком” в Поздней Российской империи», Islamology, Том 7, № 1 (2017): 140-179.
[52] Prescott, Andrew, The textuality of the Archive, What are archives? : cultural and theoretical perspectives (Ashgate Publishing Limited, 2008): 31-53.