Западный наблюдатель и западный взгляд в аффективном менеджменте советской субъективности
В издательстве Европейского университета в

В романе Ивана Ефремова «Час Быка» (1969 г.) есть любопытный эпизод, описывающий подготовку представителей коммунистической Земли к первой встрече с капиталистическим миром планеты Торманс. Этот эпизод до предела насыщен зрительными образами и действиями. Чтобы произвести на местных жителей ошеломляющее эстетическое впечатление, главные герои тщательно работают над своим внешним видом. Сначала они подбирают одежду под цвет волос, потом принимают «пилюли загара» и, наконец, меняют цвет глаз с помощью химических стимуляций. Сцена завершается восклицанием одного из героев: «Сделайте всем нам лучистые глаза, напоминающие звезды, и пусть видят землянина издалека, в любой толпе!»
И в данном эпизоде, и во всех других сценах, где описаны встречи между коммунистическим и капиталистическим мирами, Ефремов предельно визуализирует и эстетизирует восприятие капиталистического мира героями «Часа Быка» через контраст образов ярких и гармоничных людей Земли и бесцветных, описанных физически непривлекательными жителей Торманса. Акцент на глаза в приведенной выше сцене не случаен: взгляд главных героев формирует романное пространство этого мира, поскольку сцены его описания даются либо непосредственно глазами земных героев, либо через их взаимодействие с тормансианским обществом. В поэтике «Часа Быка» человек с Земли является в первую очередь наблюдателем (в повествовательной логике это подчеркивается запретом для землян вмешиваться во внутренние дела планеты), а мир Торманса — объектом взгляда.
История «Часа Быка» хорошо известна историкам советской культуры и литературы. Роман, опубликованный в 1969 г. в журнальном варианте в «Молодой гвардии», а в 1970 г. отдельным изданием, был негативно воспринят на самом высшем уровне советского партийного руководства. В сентябре 1970 г. Юрий Андропов, бывший в то время председателем КГБ, представил в ЦК КПСС записку, согласно которой в «Часе Быка» Ефремов «под видом критики общественного строя на фантастической планете… клевещет на советскую действительность…» [1]. Как следствие, при жизни Ефремова роман, несмотря на популярность, не переиздавался, а после его смерти в 1972 г. уже опубликованные экземпляры были изъяты из библиотек, и книга оставалась под фактическим запретом до 1988 г. [2]
В контексте данной статьи наибольший интерес для меня представляет вызванный «Часом Быка» сбой в самоидентификации аудитории романа. С одной стороны, и официальная реакция, и ряд более поздних мемуарных свидетельств [3] указывают на то, что часть аудитории Ефремова узнавала себя не в гармоничном, ярком и светлом коммунистическом обществе Земли, а в темном, сером, эстетически непривлекательном обществе Торманса. С другой стороны, текст «Часа Быка» буквально усеян прямыми и косвенными указания на то, что цивилизация Торманса является критикой западной (капиталистической) и китайской («лжесоциалистической» в терминологии самого Ефремова) моделей развития. Прямое прочтение романа, учитывающее и эти указания, и историософские рассуждения Ефремова, оставляло чувство недоумения о причинах его запрета среди тех читателей, у которых не возникало ассоциации между советским обществом и вымышленным миром романа [4]. С большой долей уверенности можно утверждать, что «антисоветское» прочтение «Часа Быка» не входило в авторские интенции и самого Ефремова, стремившегося показать «будущее коммунистическое общество в контрасте с обществом, порожденным капитализмом» [5].
Одной из возможных причин данного сбоя в узнавании/неузнавании «себя» читательской аудиторией Ефремова мне представляется то, что в поэтике его романа герои коммунистической Земли заняли позицию, являющуюся одной из структурообразующих для советского символического порядка: позицию внешнего наблюдателя. В советском же культурном производстве эта позиция прочно ассоциировалась не с советскими людьми, а с фигурой западного наблюдателя, чей взгляд (gaze) создавал определенные формы советской субъективности — те формы, которые в романе Ефремова были описаны применительно к «общественному строю на фантастической планете» Торманс и которые, как следствие, узнавались некоторыми из его читателей, в том числе Андроповым, как «клевета на советскую действительность». Ситуация со сбоем в идентификации «себя» читателями «Часа Быка», таким образом, является хорошим поводом порассуждать о том, насколько советское «я» являлось производным от определенных культурных режимов и контекстов, в которых существовал советский человек, ведь по крайней мере у части читательской аудитории Ефремова «советское», несмотря на авторские интенции, ассоциировалось с теми ситуациями и контекстами, которые использовались в романе для описания Торманса. В данной статье я хочу предложить именно такой подход к историческому описанию советской субъективности, который будет заключаться не в реконструкции условного советского субъекта, обладающего набором устойчивых признаков, а в описании повторяющихся, культурно обусловленных ситуаций, в которых происходило осознание себя в качестве советской личности. Перефразируя это в терминологии Мишеля Фуко, то понимание советской субъективности, которое я хочу предложить в данной статье, заключается в описании конкретных исторических режимов субъективации:
«Я не верю, что можно решить проблему историзации субъекта так, как это предлагают феноменологи, выдумывающие субъекта, который эволюционирует с ходом истории. Необходимо расстаться с единым субъектом, избавиться от субъекта как такового, т. е. прийти к такому анализу, который опишет формирование субъекта в конкретных исторических условиях. Это то, что я называю генеалогией, т. е. формой истории, которая описывает создание форм знания, дискурсов, систем вещей и т. д., без отсылок к субъекту, который либо является трансцендентальным по отношению к полю событий, либо проходит в пустой тождественности через историю» [6].
Данная статья представляет собой попытку описать одну из многочисленных ситуаций, через которые происходило формирование и осознание советского «я», а именно ситуацию, когда советский человек оказывался в позиции наблюдаемого под реальным или воображаемым западным взглядом. Этот режим субъективации, как я хочу показать в данной статье, сформировался в конкретных исторических условиях как эффект советского взаимодействия с окружающим миром. Взаимодействие это носило отчетливо визуальный и инсценировочный характер, на что обратили внимание исследователи, занимающиеся культурной историей советских контактов с Западом.
Формы советской саморепрезентации для внешнего мира оказали гораздо большее влияние на советское общество, чем на окружающий мир
Исследовательские работы подчеркивают зрелищность и театральность советского взаимодействия с Западом уже на уровне своих названий и основных концептов. В монографиях Пола Холландера и Майкла Дэвида-Фокса советская культурная политика 1920–1930-х гг. интерпретируется как «зрелище», «представление» и «потемкинские деревни» [7], Франсуа Фюре оперирует термином «иллюзия» [8], и этот же визуальный аспект акцентируется в устойчивой апелляции к глазам и взгляду в работах Г. Б. Куликовой, А.В. Голубева и Мартина Мала [9]. Энн Горсач, А.Д. Попов и В.А. Хрипун описывают зарубежные поездки советских туристов и иностранный туризм в СССР в послевоенное время через призму зрелищности и перформативности: Горсач пишет про «выступление» советских туристов «на международной сцене», Хрипун характеризует Ленинград как «европейскую витрину» СССР, а Попов вводит понятие «демонстрационное место» для характеристики сферы услуг в олимпийской Москве 1980 г. [10] На последний аспект — планирование советского социального и городского пространства к знаковым мероприятиям, подразумевавшим участие большого количество иностранцев, — обращают внимание на примере московского молодежного фестиваля 1957 г. Стивен Биттнер и Пива Койвунен [11]. Исследования о культурных аспектах холодной войны также подчеркивают презентационные функции советской культуры и спорта как «лица» Советского Союза для западной публики [12].
Перечисленные исследования объединяет интерес к советской истории в межнациональном контексте — к тому, что Майкл Дэвид-Фокс назвал «транснациональными переплетениями» (transnational entanglements) [13]. В то же время интерес к политическому, культурному и научному взаимодействию между западным миром и СССР отодвинул на второй план тот факт, что формы советской саморепрезентации для внешнего мира оказали гораздо большее влияние на советское общество, чем на окружающий мир, для которого они и были задуманы. В первом разделе данной статьи я показываю, что важным эффектом советской культурной дипломатии 1920–1930-х гг., связанным с ее визуальным и инсценировочным характером, было появление в советской культуре фигуры западного наблюдателя, воображаемый взгляд которого стал частью советской дисциплинарной системы [14].
Возникновение западного наблюдателя в довоенной советской культуре является культурно-историческим фоном для основной части статьи, где я описываю советские практики субъективации, относящиеся к послесталинскому периоду. Мой концептуальный аппарат в этой части основан на идеях о культуро- и субъекто- образующем потенциале взгляда, восходящих к работам Жака Лакана [15] и получивших развитие, помимо работ Фуко, в феминистской и
Западный взгляд действовал подобно идеологическому оклику, вызывающему в определенных культурно заданных ситуациях советского субъекта в социальную действительность. Однако эту власть он обретал не напрямую, а через вызываемые им аффекты [19] гордости и стыда — в этом контексте для меня важны работы по теории аффекта, которые рассматривают его как социальное явление, способное «апеллировать» к советскому субъекту и тем самым формировать его, вызывать в социальную действительность [20]. В результате западный взгляд как культурный феномен оказался востребован в качестве одной из микропрактик власти, хотя и выдавал себя за сторонний взгляд Другого. Реального физического присутствия его носителей не требовалось, поскольку и западный взгляд, и западный наблюдатель были культурными абстракциями — частью советского символического порядка — которые производились и воспроизводились как «внутренний» продукт советского дискурсивного пространства.
Генеалогия западного взгляда в советской культуре, или западный наблюдатель на службе страны советов

Как культурный феномен западный наблюдатель и западный взгляд в их советской реинкарнации [21] генеалогически восходят к советской культурной дипломатии периода 1917–1930-х гг., когда РСФСР, а с 1922 г. СССР становится пунктом назначения для многочисленных рабочих делегаций и представителей левой интеллигенции [22], а также крупных иммиграционных потоков [23]. Советское руководство осознавало важность их визуального опыта в СССР как одного из ресурсов для внутренней и внешней легитимации советского строя. Это можно проследить по первому изданию «Десяти дней, которые потрясли мир» Джона Рида, опубликованному в 1923 г. с предисловиями В.И. Ленина и Н.К. Крупской. И Ленин, и Крупская подчеркивали важность книги Рида как непосредственного свидетельства революционных событий октября-ноября 1917 г. глазами внешнего наблюдателя. Это особенно заметно в предисловии Крупской, которая прямо пишет об «остроте зрения» Рида, позволившей ему обрести истинное знание о революции и изложить его в своей книге:
«Джон Рид не был равнодушным наблюдателем, он был страстным революционером, коммунистом, понимавшим смысл событий, смысл великой борьбы. Это понимание дало ему ту остроту зрения, без которой нельзя было бы написать такой книги. Русские <…> иначе пишут об Октябрьской революции: они или дают оценку ее, или описывают те эпизоды, участниками которых они являлись. Книжка Рида дает общую картину настоящей народной массовой революции, и потому она будет иметь особо большое значение для молодежи, для будущих поколений…» [24]
К своей позиции внешнего наблюдателя, способного — в силу отстраненности — охватить взглядом всю советскую действительность, сравнить ее с западными реалиями и подтвердить превосходство Страны Советов, апеллировал и Максим Горький, вернувшийся в СССР летом 1929 г. после многолетней жизни в Италии: «Вам нужно иметь перед собой какое-то зеркало, вам нужно иметь перед собой то, глядя на что вы лучше могли бы видеть, что вами сделано, что вами делается и что вы должны сделать» [25].
И Крупская, и Горький рассуждают о важности внешнего наблюдателя не столько для западного мира, сколько для внутреннего символического потребления: этот наблюдатель играет для них роль лакановского зеркала, которое собирает разрозненный опыт советской действительности в единую картину. В этом отношении характерно, что оба автора подчеркивают фрагментарность внутреннего опыта советской действительности и противопоставляют ему цельность внешнего восприятия. Крупская указывает на то, что Рид в силу присущей ему «остроты зрения» «дает общую картину» революционных событий, на что не способны советские авторы: укорененность в советской действительности лишает их широты взгляда, позволяет описывать лишь «эпизоды». Горький же, обращаясь к советской аудитории, говорит о ее «ограниченном круге» и своем более широком «поле зрения» и прямо заявляет о необходимости внешнего наблюдателя как «зеркала» для того, чтобы советские люди могли понять величие своих свершений и тем осознать свое советское «я».
Собственно, практика приглашения западных интеллектуалов всегда совмещала два контекста — внешне- и внутриполитический — и две аудитории — самих зарубежных интеллектуалов и советское общество. Поездки видных деятелей европейской и американской культуры в СССР имели вполне прагматическую подоплеку формирования позитивного образа советского государства и его руководства за рубежом, отсюда функционалистское объяснение советской культурной дипломатии как советских «потемкинских деревень» [26]. Но не менее важным представляется и внутриполитический аспект этого процесса. О нем вкратце упоминал Н.Я. Эйдельман в статье «Гости Сталина», но он свел его к укреплению личного авторитета Сталина среди советской интеллигенции [27]. Между тем представляется, что этот эффект был существенно шире.
Побочным эффектом обращения мистера Веста в сторонника Советской России становится превращение Москвы и советских жителей в зрелище для его взгляда
Визиты зарубежных знаменитостей в СССР порождали дискурсивные волны, начинавшиеся с «Правды», как в случае с Горьким, и заканчивавшиеся статьями в региональных газетах, которые регулярно описывали, что увидели в СССР гости Страны Советов и какое впечатление произвело на них увиденное. В одной из таких региональных газет, например, финская иммигрантка «собственными глазами увидела, что женщина в Советском Союзе не раба своей семье и семейной кухни, а равноправный строитель новой жизни» [28], а в другой два французских интеллектуала — Андре Жид и Анри Барбюс — фактически слово в слово описали свой опыт советской действительности: «Я хотел бы жить столько, чтобы иметь возможность увидеть своими глазами <…> победу СССР» [29] и «Горю желанием <…> увидеть собственными глазами ту огромную работу по строительству социализма, которая проделана рабочими и колхозниками СССР под руководством Коммунистической партии» [30]. В это же время советские газеты начали визуализировать западный взгляд, помещая на своих страницах фотографии иностранных граждан, завороженно глядящих на грандиозные стройки коммунизма [31].
Многочисленные подобные публикации в местных советских газетах, не имевших хождение за пределами своих предприятий, районов и областей, едва ли имели какое-либо значение для формирования советского образа за рубежом. Адресованные исключительно советской аудитории, они производили и воспроизводили логику внешнего взгляда, от которого ожидалось восхищение советскими реалиями. Однако эта культурная логика имела и оборотную сторону: от советских людей она ожидала содействия зрительному удовольствию иностранных гостей. Это нашло отражение в фильме Льва Кулешова «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (Госкино, 1924), который выстроен композиционно как создание негативной иллюзии советской действительности для заезжего американского гостя. В конце фильма иллюзия благополучно развеивается стараниями органов безопасности, и чекист, выручивший мистера Веста из лап вымогавших его деньги мошенников, обещает: «Сейчас вы увидите целые тысячи настоящих большевиков». После этих слов мистер Вест поднимается на трибуну и, повинуясь указующему жесту чекиста, видит стройные колонны марширующих советских людей. Интенциональный пафос этой сцены, несомненно, заключается в радиограмме, которую мистер Вест отправляет после этого жене: «Сожги нью-йоркские журналы и повесь в кабинете портрет Ленина. Да здравствуют большевики!» Но побочным эффектом обращения мистера Веста в сторонника Советской России становится превращение Москвы и советских жителей в зрелище для его взгляда. Марширующие колонны «настоящих большевиков», энтузиазм рабочих, который наблюдает мистер Вест по дороге на радиостанцию, величественная красота старой Москвы и конструктивистское новаторство нового строя, показанное на примере Шуховской башни, — иными словами, городской ландшафт и советское социальное тело, имперское прошлое и коммунистическое будущее — все это организуется в единый советский порядок вещей под взглядом мистера «Запада».
Таким образом, в первые полтора десятилетия советского строя произошло становление культурной логики, в котором западный наблюдатель и его взгляд — абстракция, созданная через многочисленные публикации об иностранных визитерах и иммигрантах в СССР, — обрели способность собрать фрагментарный советский опыт в единое целое, т. е. вызвать к жизни коллективное советское «я», через принадлежность к которому и определялся индивидуальный советский субъект. Фигура внешнего наблюдателя была не единственным культурным механизмом, посредством которого культурные деятели раннего советского периода стремились представить цельную, композитную картину советской страны. В начале 1920-х Дзига Вертов начал писать о киноглазе как механизме, расшифровывающем и одновременно организующем реальность [32]. «Необычайные приключения мистера Веста» и риторические высказывания Горького структурно близки таким фильмам Вертова, как «Шестая часть мира» и «Шагай, Совет!», которые зафиксировали похожую логику: поиск позиции экс-территориальности, внешней точки зрения, которая создала бы цельную картину социалистического строительства в СССР.
Середина 1930-х гг. обозначила парадигмальный сдвиг от заинтересованности в поиске овнешненной позиции к производству нормативных нарративов соцреализма. В этой ситуации позиция внешнего наблюдателя стала непродуктивной, и со второй половины 1930-х гг. культурное производство фигуры западного наблюдателя утратило свою интенсивность. Одновременно исчезли и этнографические фильмы Вертова. Майкл Дэвид-Фокс говорит применительно к этому периоду о рождении «сталинского комплекса превосходства», поскольку правящий режим больше не нуждался во внешней легитимации своей власти [33], и в схожем ключе рассуждает С.В. Журавлев, когда пишет о том, что лозунг 1920–1930-х гг. о необходимости учиться у иностранцев сменился противоположным: «Чему иностранцы должны научиться в СССР» [34]. Представляется, что эта тенденция вписывается в ту же культурную логику наблюдателя и наблюдаемого, которая достигает здесь степени нарциссизма — внешний наблюдатель становится для нее избыточным.
В середине 1950-х гг. вызванные смертью Сталина политические и культурные изменения возвращают фигуру западного наблюдателя в разряд значимых других советского символического порядка. Именно тогда и стала важна историческая глубина данной фигуры, восходящая к первым годам советской власти. Джудит Батлер, анализировавшая в “Excitable Speech” причины уязвимости людей к идеологическому оклику [35], особо подчеркивала историческую природу этой уязвимости: оклик Другого должен быть общим местом в культуре, обладать некой исторической глубиной — субъект откликнется, войдя тем самым в определенный режим субъективности (т. е. став субъектом в момент оклика), только если присутствует изначальная внутренняя готовность «откликнуться» [36]. Укорененность западного наблюдателя и западного взгляда в советском символическом порядке приводит, начиная с середины 1950-х гг., к тому, что западный наблюдатель вновь обрел власть вызывать в социальное бытие советского субъекта. Ключевым моментом здесь становится аффективная природа западного взгляда, чья работа по субъективации советского человека осуществлялась через апелляцию к эмоциям гордости и стыда.
Гордость наблюдаемого: советское тело и советские объекты на международной сцене

Исследовательская литература о VI Всемирном фестивале молодежи и студентов, состоявшемся в Москве летом 1957 г., акцентирует внимание на пропагандистском и перформативном характере этого события, рассматривая фестиваль как репрезентацию обновленного социализма (после XX съезда КПСС) и как готовность социалистического руководства открыто соревноваться с Западом. Фестиваль, таким образом, обычно интерпретируется в концептуальных рамках транснациональной истории. Гораздо меньшее внимание обращается на то, что фестиваль не был ограничен Москвой, а охватил все советское пространство, и в этом отношении стал важным событием в жизни даже тех людей, кому в 1957 г. не довелось увидеть ни одного иностранного гостя [37].
Если посмотреть на московский молодежный фестиваль 1957 г. как на комплексное событие, то те две недели, в течение которых он проходил, были лишь верхушкой айсберга мероприятий по подготовке к фестивалю, которые растянулись на весь 1956 г. и первую половину 1957 г. Открытию фестиваля в Москве предшествовало проведение фестивалей молодежи и студентов во всех регионах СССР, а им, в свою очередь, — различные отборочные мероприятия на низовом уровне (дома культуры, первичные комсомольские ячейки на предприятиях и районные комсомольские организации). В Карельской АССР, например, старт этим мероприятиям был дан в 1956 г., когда карельский обком ВЛКСМ разослал несколько циркуляров в местные комсомольские ячейки и организации с инструкциями о проведении производственных смотров и районных фестивалей. В течение зимы-весны 1956–1957 гг. прошли школьные, заводские и районные мероприятия, по итогам которых были отобраны коллективы для участия в республиканском фестивале [38]. Эти события сопровождались кампанией в районной и республиканской прессе, риторически оформленной в русле того, что лишь самые лучшие и достойные будут представлять Карелию на фестивальном конкурсе в Ленинграде, по итогам которого и будут отобраны участники московского фестиваля [39]. На
Тщательному отбору сначала на республиканский фестиваль в Петрозаводске, а потом на московский молодежный фестиваль подвергались не только люди, но и вещи. Так, 13 апреля 1957 г. главная республиканская газета Карелии опубликовала заметку о том, что школьники Петрозаводска подготовили самодельные подарки участникам республиканского фестиваля, но лишь лучшие из них будут вручены делегатам фестиваля [42]. Чуть раньше, в феврале, карельский обком ВЛКСМ разослал в районные комитеты инструкцию о централизованном изготовлении подарков для гостей московского фестиваля. Перечислив возможные варианты подарков, обком ВЛКСМ затем рекомендовал «провести конкурс и сделать выставку лучших подарков фестивалю» [43]. В дни проведения республиканского фестиваля комсомольское руководство организовало выставку произведений изобразительного и прикладного искусства и художественной фотографии, целью которой было заявлено «отразить культуру народа Карелии». Как и все другие фестивальные мероприятия, выставка была организована в форме конкурса: лучшие работы поощрялись денежными призами, их репродукции печатались в газете «Комсомолец», а сами они отправлялись на фестиваль в Москву [44].
Все это грандиозное движение людей и вещей происходило в 1956–1957 гг. по всему Советскому Союзу. Производственные планы выполнялись и перевыполнялись под фестивальными лозунгами, в школах и на предприятиях проводились смотры-конкурсы, села и города украшались к местным фестивалям, и во многих из них появились улицы Фестивальные. Юноши и девушки выстраивались в шеренги и колонны, партийные и комсомольские функционеры давали руководящие указания, а журналисты производили дидактические тексты. И все это с одной целью: представить иностранным гостям московского фестиваля идеальное советское коллективное тело: здоровое, культурное, умелое, эмансипированное и красивое — иными словами, коллективное тело, способное вызвать восхищение у гостей СССР и гордость у советского общества [45]. При этом и люди, и вещи ранжировались в зависимости от своего соответствия советскому идеалу (логика конкурса, сопровождавшая всю подготовку); критерием же ее был ожидаемый и предвкушаемый аффект от превращения в объект разглядывания — т. е. от занятия позиции наблюдаемого.
Для большинства советских людей, вовлеченных в фестивальное движение, иностранный гость-наблюдатель так и остался абстрактной, воображаемой фигурой. Тем не менее ради его взгляда советское общество и советское пространство фактически на год превратилось в фестивальное зрелище. Фестиваль погружал своих участников в советский порядок вещей, включавший как новый режим субъективности, определявшийся как умение достойно выступать перед западным взглядом, так и новую функцию и позицию власти — власть как постановочная и экспертная, определяющая, кто может выступать для иностранной публики и как это делать наилучшим образом.
Определение различных градаций советскости через умение вызывать восхищение западной публики (превращение в объект взгляда) и определение власти как режиссирующей и экспертной, т. е. обладающей знанием того, что должен увидеть западный наблюдатель, прослеживается и в феномене, начало которого также датируется 1956–1957 гг., — советским зарубежным туризмом. Так, для Энн Горсач в ее исследовании советского зарубежного туризма «после Сталина» перформативность стала основным понятием для его концептуализации: в интерпретации официального дискурса граждане СССР ехали через приоткрывшийся железный занавес в зарубежные турпоездки для того, чтобы «выступать на международной сцене» [46]. Илья Кукулин в статье, помещенной в данном сборнике, показывает, что лирические герои стихотворений-травелогов Е. Евтушенко и А. Вознесенского воспринимают и репрезентируют себя именно в таких терминах — как посланцев советского общества, ставших участниками всемирной эстетической и политической революции [47]. Иными словами, советские туристические группы и каждый советский турист в отдельности должны были представлять из себя зрелище для западного взгляда. Неудивительно, что отбор советских туристов, хоть и не был сравним по сложности с отбором участников московского молодежного фестиваля, все равно включал в себя несколько этапов, в том числе прохождение медицинской комиссии и проверку по линии КГБ [48].
Было бы излишним упрощением интерпретировать данный процесс только с функционалистской точки зрения как конструирование советского социального тела для его репрезентации за границей. Зарубежный туризм представлял собой социальный феномен, через который находила выражение социальная дифференциация советского общества, но воображение идеального советского коллективного тела выступало как раз в качестве одного из факторов дифференциации. Таким «несовременным» советским субъектам, как колхозники, инвалиды, представители религиозных меньшинств, было, как правило, отказано в доступе к зарубежному туризму; «современные» советские субъекты — рабочие, учителя, преподаватели вузов, инженерно-технические и культурные работники — для получения заграничного паспорта должны были не только продемонстрировать навыки «говорить по-большевистски» [49] и вести себя, «как подобает советскому человеку», но еще и пройти дополнительные курсы по закреплению этих навыков [50]; наконец, принадлежность к советской номенклатуре давала привилегированный доступ к зарубежному туризму [51].
Ни западный наблюдатель, ни его взгляд не были единым или монолитным феноменом — они возникали как эффект бесчисленного множества событий по всему СССР
Но при всем том, что зарубежный туризм часто использовался как номенклатурная привилегия и к тому же в течение 1970–1980-х гг. все больше и больше трансформировался в ценный материальный ресурс, где критерием успешности туристической поездки становилась ценность привезенных вещей [52], перформативный аспект зарубежного туризма не исчезал никогда. В кинокомедии «Бриллиантовая рука» 1968 г. (реж. Л. Гайдай) советские туристы в разгар летнего дня ходят по улицам средиземноморского города в
Как и в случае с московским международным фестивалем, вызывать гордость в контексте их разглядывания западной публикой должны были не только люди, но и предметы [55]. Во второй половине 1950-х гг. наиболее зрелищными советскими объектами были, конечно, первый искусственный спутник Земли и последующие советские космические аппараты. После запуска первого спутника 4 октября 1957 г. советские СМИ начали тиражировать многочисленные иллюстрации и киносюжеты, в центре которых находились западная публика, наблюдающая за советскими космическими объектами с восторгом, удивлением и завистью. Спутник-1 и другие советские космические объекты стали, по сути дела, идеальными символами для закрепления отношений наблюдателя и наблюдаемого между воображаемым Западом и советским обществом, поскольку орбитальное движение этих аппаратов делало их физически видимыми с любой точки земного шара. Репрезентации подчеркивали «работу зрения» западных наблюдателей, которые изображались рассматривающими советские космические объекты с помощью биноклей и телескопов, а их позы и выражения лиц — как воплощение самого внимания [56].
Полет Юрия Гагарина в 1961 г. дал дополнительный импульс развитию советской культурной логики западного наблюдателя, рассматривавшего советский прогресс дружелюбно, с восхищением, или враждебно, с завистью и тревогой, и своими эмоциями подтверждавшего превосходство социалистической системы. Если в 1957 г. западный наблюдатель оставался важной, но
В этот период Советский Союз явно лидировал в освоении космоса. Не случайно первый искусственный спутник Земли и Гагарин воплотили и олицетворили советскую гордость. Оказавшись на всеобщем обозрении благодаря орбитальному движению (Спутник-1 оставался на орбите в течение трех недель [61]) или статусу первого человека в космосе, они определили «советское» как передовое в науке и технике. Их репрезентация в советском культурном производстве в качестве объектов наблюдения и восхищения западной публики усиливали национальную гордость за эти части советского целого, достойно выступающие на международной сцене.
Проанализированные выше исторические феномены рубежа 1950–1960-х гг. — подготовка к московскому молодежному фестивалю 1957 г., открытие зарубежного туризма для советских граждан и советская космическая программа — стали важными факторами, реабилитировавшими в этот период западный взгляд как один из структурообразующих элементов советского символического порядка (к ним же можно добавить превращение СССР в одну из ведущих спортивных держав мира). Здесь важно подчеркнуть, что западный наблюдатель всегда изображался эмоциональным: западный взгляд мог выражать восторг или неприятие, но не равнодушие. Во всех случаях эмоции западного наблюдателя вызывались осознанием того, что советская реальность, открывавшаяся его/ее глазам, оказывалась более современной, чем воображаемые советским дискурсом западные стереотипы об СССР. Советская культурная логика в этом отношении была логикой циркулярной: сперва она создавала у своей аудитории знание о том, что на Западе СССР воспринимается как отсталое государство, и потом опровергала это знание через эмоциональную реакцию западного наблюдателя, пораженного зрелищем современного советского пространства, техники или людей. Масштабная перестройка Москвы к молодежному фестивалю 1957 г. создавала, в частности, многочисленные возможности для литературных и визуальных репрезентаций пораженных иностранцев, приехавших в Москву, подобно мистеру Весту из кинофильма Льва Кулешова 1924 г., чтобы увидеть отсталую Россию, но узревших вместо нее прекрасный и современный Советский Союз. В качестве примера можно привести очерк из журнала «Крокодил» за 1957 г., где некий западный гость московского фестиваля ездит по Москве с надеждой найти «деревянные сгнившие домишки, бараки и ямы», «болота и лужи», «пустыри» и «грязь». Когда вместо этого «перед нашим взором открылась знакомая московская панорама: уходящие в бесконечность многоэтажные корпуса новых жилых домов», незадачливый критик советского строя оцепенел от удивления [62]. Эта же тенденция просматривается в многочисленных советских карикатурах в «Крокодиле», иронизировавших по поводу недоброжелательно настроенных к СССР наблюдателей, которым приходилось либо скрывать, либо открыто фабриковать иллюзии об архаической советской реальности, поскольку настоящая советская реальность, открывавшаяся их глазам, представляла собой современное государство с мощной индустрией и современными домами, транспортом и потребительской сферой.
Если обобщать культурную логику, стоявшую за репрезентациями западного наблюдателя в советской культуре и СМИ в послесталинский период, то наиболее важным моментом представляется анимирующая способность западного взгляда. Западный наблюдатель, как правило, изображался пассивным, но его взгляд приводил в движение советскую действительность, порождая необходимость выступать перед иностранной публикой, воображаемой или реальной. Способностью вызывать в социальное бытие перформативного советского субъекта, делать аффективной советскую вещь и преобразовывать советское пространство западного наблюдателя наделяла присущая ему власть, порожденная дискурсом и перформативными практиками, генеалогически восходящими к первым десятилетиям советской власти, — иными словами, историческая глубина культурной фигуры западного наблюдателя. Западный наблюдатель и западный взгляд воспроизводились в бесчисленных визуальных и текстовых репрезентациях, подразумевались в ранжировании советского пространства на рекомендованное и закрытое для иностранных туристов и разыгрывались на районных и региональных фестивалях 1957 г. Ни западный наблюдатель, ни его взгляд не были неким единым или монолитным феноменом — они возникали как эффект этого бесчисленного множества событий, происходивших по всему СССР в различных контекстах, но приводивших к одному и тому же результату: порождению нормативного советского субъекта через занятие им позиции наблюдаемого и определение советской власти как экспертной и постановочной.
Власть западного взгляда была по своей природе аффективна: движущей силой для советского человека, определявшей, как необходимо выступать на «международной сцене», являлась потребность произвести впечатление на внешнего наблюдателя: вызвать восторг, благоговение и одобрение среди условных друзей и зависть, бессильный гнев и разочарование среди условных врагов. Тем самым в советской культурной логике западный взгляд рождал онтологическую потребность в гордости за советское тело, вещь или пространство. Но эта символическая власть, которой обладал западный взгляд, имела и оборотную сторону. Столкновение с реальными западными наблюдателями, отказывавшимися приходить в восторг или благоговейный ужас при виде советских людей, вещей или пейзажей, приводило к тому, что аффективная экономика западного взгляда становилась по своей природе диалектичной: гордость в ней соседствовала со стыдом.
Стыд перед западной публикой и его эффекты
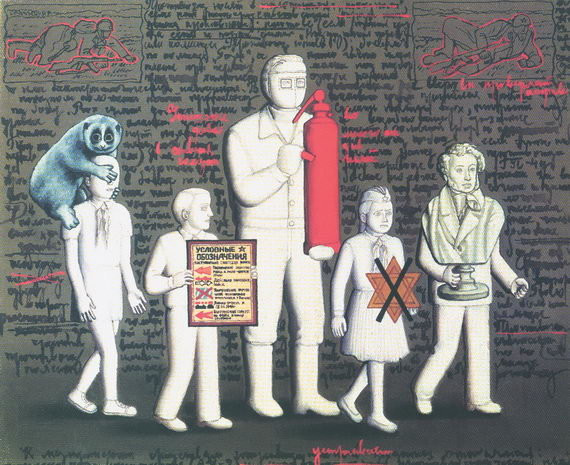
Было бы упрощением говорить о том, что процесс реабилитации и возобновившегося производства фигуры западного наблюдателя в советской культуре в период «после Сталина» был запущен «сверху» для некой абстрактной легитимации советской власти. К середине 1950-х гг. западный взгляд был уже глубоко укоренен в советской культуре — в тех символических позициях, которые он порождал, в ранжировании советских тел на современные и несовременные, в классификации советского пространства и объектов на то, что можно показать и что нужно скрывать. Дискурсивный и перформативный характер западного взгляда и его укорененность в советской культуре обеспечивала его воспроизводство безотносительно «верхов» и «низов». Можно предположить, что участники всех подготовительных смотров и промежуточных фестивалей 1956–1957 гг. набирались исключительно на добровольной основе с тем, чтобы показать себя с наилучшей стороны перед заграничными гостями Московского молодежного фестиваля, и точно так же советские туристы, отправляющиеся в заграничные турпоездки, искренне старались произвести положительное впечатление на иностранных граждан. Причины этой добровольности и искренности заключались в том, что сбой в выступлении перед зарубежной аудиторией был чреват другим, более острым, чем гордость, аффектом — стыдом.
Опыт переживания стыда перед западным взглядом описан во многих советских источниках личного происхождения, начиная с середины 1950-х гг. Так, например, в мемуарах Т.П.
«[Нас] завели в темное помещение, где пол, составленный из цилиндров, ходил ходуном. Доверчиво тянули руки к подхватывающим местным симпатичным юношам, и те мгновенно ставили на место, откуда
Данный отрывок описывает опыт переживания стыда за свое некрасивое нижнее белье, оголенное взглядам «симпатичных юношей»-финнов, и за своих мужских попутчиков, точно так же выставленных на всеобщее обозрение прозрачного лабиринта в нелепых костюмах, о которых чуть раньше Каптерева-Шамбинаго писала: «В глазах иностранцев мы в ту пору смотрелись дико. Если женщины выглядели прибранными и обычными, то мужчины представляли собой незабываемое зрелище» [64]. И в том, и в другом случае момент переживания стыда являлся для автора моментом актуализации коллективного советского «я», что проявляется в употреблении фраз «советские дамы» и «русские мужики». Сбой в представлении для западной аудитории, которое исполняли советские люди, приводил не к утраченной, а к обостренной самоидентификации.
Литература эмиграции и перестроечного периода, как и постсоветские мемуары, зафиксировала много примеров, когда сбои советской перформативности под западным взглядом приводили к острому осознанию своей принадлежности к коллективному советскому «я» вопреки всем социальным и культурным границам. В романе Н.Г. Медведевой стыд за швейцара ленинградского ресторана, ведущего себя по-хамски в присутствии компании итальянцев, становится для главной героини — персонажа, далекого от «нормы» советской женственности, — моментом национальной идентификации, ощущения общности с «русскими, советскими гражданами»:
«Перед группой итальях швейцар с улыбкой распахивает двери <…> Они только своими обтянутыми в фирменные штаны жопами перед ним покрутили да паспортами итальянскими — ничего ему не дали! Александр дает швейцару десятку за нас — и тот еще недоволен <…> И мне стыдно перед иностранцами. За своих, за русских, за советских граждан!» [65]
Весь «несоветский» образ жизни главной героини, ее показной отказ от следования ритуалам советской повседневности, вовлеченность в советскую теневую экономию, многочисленные сексуальные контакты — все то, что в официальном дискурсе было антонимично качествам советского человека, становится неважным в момент ощущения стыда за сбой в зрелище советской действительности — стыда «перед иностранцами». В этот момент она становится советской женщиной. Герою романа братьев Вайнеров «Евангелие от палача» (написан в стол в конце 1970-х гг., опубликован в 1991 г.) аналогичным образом «совестно перед иностранцами» за очереди, которые не только вносят диссонанс в советский городской пейзаж, но и переопределяют историческое время. Ведь если советские граждане не способны достойно вести себя перед (воображаемым) зарубежным взглядом, то они не обладают величием и перед лицом истории:
«Жалкая очередишка за крупой, заурядная очередь за картошкой, почтенный хвост за рыбой «ледяной», впечатляющая череда за мясом, величественная процессия за выпивкой. Мне стыдно за вас, сограждане. Нельзя так любить продукты, позорно так тешить плоть <…> За вас совестно перед иностранцами» [66].
В советском символическом пространстве для аффекта стыда не существовало социальных или культурных границ
Для Георгия Данелии таким моментом стыда, вызванным неудачей в выступлении перед западным взглядом, стал эпизод с покупкой колготок для жены друга во время поездки в Италию. В своих мемуарах Данелия озаглавил этот эпизод «Наши за границей», несмотря на то что «наши» в нем ограничивались самим Данелией и его другом, сценаристом и чиновником Госкино Владимиром Баскаковым. Комичность эпизода заключается в том, что Данелия и Баскаков до этого никогда не видели и не покупали колготки (Данелия узнаёт само это понятие в момент покупки) и вынуждены объяснять, что им нужно, исключительно жестами, без знания итальянского языка:
«Баскаков заплатил. Когда пакет открыли (там действительно были колготки), я приложил их к себе — они оказались короткими. Я жестом показал продавцу — маленькие. Он (также жестом) объяснил — они растягиваются. Я придерживал колготки у пупка, Баскаков тянул их до пола… А продавец и синьора с мужем (другие покупатели. — А. Г.) с омерзением смотрели на эту сцену» [67].
Все эти примеры любопытны еще и тем, что в советском символическом пространстве для аффекта стыда не существовало социальных или культурных границ: его эффект — болезненная самоидентификация себя как части советского целого — был одинаков и для представителей советской творческой интеллигенции (Т.П.
«Все мы <…> бегали по магазинам и выписывали товары по дипломатической скидке; складывали все приобретения в коробки, упаковывали их накануне отпуска и везли домой <…> Я с грустью вспоминаю все эти сборы-проводы, погрузку в поезд, толпы провожающих, норовящих вручить отъезжающему посылку-передачку, презрительные взгляды датчан, наблюдающих сцену «переселения народов» эпохи Гражданской войны <…> Какое убожество!» [68]
Авторский голос в этом отрывке звучит с двух позиций. С одной стороны, Григорьев определяет себя как полноправного участника процесса обогащения и погони за западными товарами («все мы») — т. е. как субъекта потребительского желания. Вторая позиция возникает в тот момент, когда он оценивает действия сотрудников советского посольства как «сцену», т. е. как визуальный ряд, возникающий в силу присутствия западной публики, под взглядом которой («презрительные взгляды датчан») происходит осознание несоответствия советских тел и вещей тем перформативным актам, которые от них ожидаются. Стыд тем самым выполняет двойную работу: он вызывает сбой в самоидентификации «себя» как субъекта желания и тут же вызывает к жизни субъекта, болезненно осознающего свою советскость. На эту двойственную взаимосвязь стыда и самоидентификации обратила внимание американский философ Ив Седжвик. С одной стороны, стыд для Седжвик является моментом, в который происходит разрушение коммуникационного процесса, составляющего идентичность: «Стыд заполняет собой все за мгновение, разрушительное мгновение, словно короткое замыкание в идентификационной коммуникации, составляющей идентичность» [69]. Но, обеспечив слом привычной идентификационной цепи, стыд в тот же момент навязывает другую идентичность. Двойное движение стыда для Седжвик — это движение «к болезненной индивидуализации, к неконтролируемой общности» [70].
При этом «презрительные» взгляды западных наблюдателей, о которых шла речь в предыдущих эпизодах, — необходимое условие для возникновения аффекта стыда — являются, конечно, воображаемыми. Григорьеву сначала потребовалось осознать себя и своих коллег из посольства СССР в Копенгагене как зрелище («сцену»), чтобы тут же ощутить неадекватность этого зрелища и, оглянувшись на датских пассажиров копенгагенского вокзала, интерпретировать весь их возможный спектр реакций как «презрение». Это тот самый случай, когда «зрелище предваряет зрение» [71] — иными словами, осознание себя в качестве объекта западного взгляда предшествует возможности увидеть — а на деле вообразить — этот самый взгляд. Испытывали ли датские свидетели отправления советских дипломатических вагонов презрение или нет в действительности — в данном контексте это оказывается не важным: стыд являлся следствием внутреннего, интернализированного западного взгляда. Точно так же не важно, смотрели ли итальянские «синьора с мужем» на растягивание колготок Данелией и его другом «с омерзением» или испытывали какие-то другие эмоции: важно то, что осознание Данелией несоответствия своих действий ожидаемому поведению советского человека за границей — т. е. занятие символической позиции обозреваемого — «предшествует зрению» и задает границы интерпретации увиденного.
Во всех случаях их эффект — аффективная интерпелляция советского субъекта — ретроспективно переопределяет его прежнее существование в качестве, например, субъекта потребительского желания у Б.Н. Григорьева: прежняя идентификация перестает быть важной, когда он осознает себя объектом «презрительных взглядов датчан» и переопределяет свой потребительский опыт восклицанием: «Какое убожество!» Для героини Н.Г. Медведевой становятся не важными ее социальные, поведенческие и гендерные различия с советским швейцаром — стыд за его поведение перед «итальяхами» подчеркивает их общность как двух частиц советского коллективного тела.
В советском культурном пространстве, таким образом, игра на западную публику сопровождалась не только предвкушением гордости за свое индивидуальное или коллективное выступление, но и страхом потерпеть неудачу. Страх быть узнанным не в красивых московских ландшафтах и неуклонном росте промышленного производства, а в довоенных бараках и товарном дефиците рождал приведенные выше карикатуры на
Как видно из данных примеров, для успешной работы по субъективации советского человека западный взгляд требовал от него овладения определенными культурными компетенциями, включающими не только навыки выступления на международной сцене, но и умение сверяться с реакцией западной аудитории, занимать ее позицию — иными словами, воспроизводить снизу, на уровне своего тела и по отношению к себе самому экспертные и режиссерские функции власти. Однако овладение этими компетенциями не могло не привести к социальным и культурным конфликтам, которые были связаны с попытками советских людей изменить свою позицию (позицию наблюдаемого) в символическом пространстве, сформированном западным взглядом, переместившись либо на позицию эксперта, т. е. властную позицию, либо на позицию самого западного наблюдателя.
Манипулирование позициями как практиками субъективации

В том же 1956 г., когда в советских регионах начиналась подготовка к московскому молодежному фестивалю, а европейские столицы принимали первые советские круизные теплоходы К.Г. Паустовский на обсуждении романа В.Д. Дудинцева «Не хлебом единым» в Московском доме литераторов произнес речь, ставшую одним из ранних документов в корпусе самиздата. В своей речи Паустовский критиковал «новую касту» советских номенклатурных работников, персонализированных в романе Дудинцева под именем Дроздова, которых он обвинил в уничтожении советской интеллигенции «во имя собственного… благополучия». За несколько месяцев до этого Паустовский был пассажиром первого послевоенного круиза вокруг Европы на пароходе «Победа», где стал свидетелем масштабного фиаско в выступлении советских номенклатурных работников на международной сцене. Неудивительно, что одним из основных аргументов в его атаке на советскую номенклатуру стала апелляция к западному взгляду:
«Сравнительно недавно мне довелось быть среди Дроздовых довольно длительное время и очень много с ними встречаться. Они поражали своим диким невежеством. Пускать таких людей за пределы нашей родины, по-моему, преступление, потому что у них — Дроздовых — очевидно, совершенно различные понятия о престиже страны и советского человека» [73].
В этой речи Паустовский присваивает себе позицию власти — ту самую экспертную позицию, с которой оценивается, что можно и что нельзя показывать западному взгляду («пускать таких людей за пределы нашей родины, по-моему, преступление»). Более того, аффект стыда, заставивший Паустовского ощутить болезненную идентификацию с Дроздовыми — что выразилось в отсылке на «престиж страны и советского человека» — неизбежно привел его к политизации своего высказывания, поскольку Паустовский в нем претендует на право определять границы и градации «советскости». Дроздовы, по мнению Паустовского, не имеют «ничего общего ни с революцией, ни с нашей страной, ни с социализмом» [74] не только потому, что они ответственны за 1937 г., но и
Сергей Ушакин, предложивший для концептуализации советского диссидентского движения концепцию «миметического сопротивления», выводил его особенности из того, что диссиденты использовали «язык и формы аргументации, которые… не так уж и отличались от дискурса коммунистических властей», в результате чего они «могли занять определенную символическую и дискурсивную позицию в обществе, репрезентируя себя как политических субъектов» [75]. Анализ высказываний, подобных речи Паустовского, позволяет сделать предположение, дополняющее эту концепцию. Занятие символической позиции, связанной той или иной властной функцией (в данном частном случае — экспертной), предшествовало осознанию себя как критически настроенного субъекта. В качестве другого примера можно привести дневник Ю.М. Нагибина. Его самые критические эпизоды, на фоне которых речь Паустовского звучит более чем скромно, связаны с тем же аффектом стыда, который Нагибин ощущал по отношению к соотечественникам, не умеющим «достойно» вести себя в присутствии иностранцев, но отправляющимся за границу или попадающим на приемы в иностранных посольствах благодаря номенклатурным привилегиям:
«Прием [в японском консульстве] был оскорбителен <…> Безобразная сцена в духе старинного русского местничества разыгралась вокруг стола, предназначенного начальству. «Иди сюда, чтоб тебя!…» — заорал на жену Сизов и, схватив за руку, буквально швырнул на стул рядом с собой» [76].
В этом и в других подобных эпизодах [77] Нагибин становился критиком власти в тот момент, когда стыд за поведение своих соотечественников или личная обида подталкивали его на позицию эксперта, с которой он давал негативную оценку их выступлению перед международной публикой. Критическая политическая позиция становилась производной от этой оценки. С такой же позиции Галина Вишневская описывает свой опыт постепенного накопления критического отношения к советской культурной политике, который в конечном итоге выливается в иммиграцию: это опыт стыда за решения, принимаемые советскими чиновниками культуры,
«Мое сердце разрывалось от стыда за наше великодержавное хамство. Я не могла понять, как же может советское государство отказываться от чести, что великий английский композитор, вдохновленный пением русской певицы, написал для нее партию в своем гениальном сочинении <…> Ведь это честь не только мне, но и моему народу» [78].
В этом высказывании видна все та же обостренная идентификация с советским коллективным «я», вызванная аффектом стыда, которая оборачивается политическим жестом — характеристикой советской культурной политики как «великодержавного хамства». Вишневская в данном эпизоде оценивает ситуацию не как простая исполнительница, жалеющая о потере роли, — оценка происходит именно с экспертной позиции, предполагающей заботу о национальных интересах («ведь это честь… моему народу»). Стыд за конкретную ситуацию приобретает у Вишневской национальный размах и предваряет политическую оценку данной ситуации [79]. При этом характерно, что аффект стыда оказывает аналогичное действие — появление критического субъекта — и в случае с офицером госбезопасности Б.Н. Григорьевым. В своих мемуарах он схожими словами описывает ситуацию, когда во время службы в Копенгагене ему пришлось испытать чувство стыда за двух высокопоставленных чиновников со Старой площади, которых он должен был проводить на авиарейс в Москву:
«…компания, пошатываясь, выползла [из советского посольства] наружу и втиснулась на заднее сиденье «форда», который я предусмотрительно загнал во двор, чтобы избавить прохожих от позорного зрелища <…> [В аэропорту] я посмотрел по сторонам и увидел обоих дядек — о ужас! — в противоположном конце зала. Они, словно играя в салки, убегали от преследовавшего их представителя «Аэрофлота» и от души дурачились над ним <…> Стоявшие вокруг пассажиры и служащие аэропорта недоуменно наблюдали за этим необычным хэппенингом <…> К сожалению, это был не единственный пример хамского, барско-высокомерного и пренебрежительного по отношению к достоинству страны поведения со стороны сильных мира того. Вера в партию у меня окончательно была поколеблена» [80].
Переживание стыда выталкивало советского субъекта из позиции наблюдаемого на экспертную позицию
Как и в предыдущих случаях, аффективный опыт Григорьева — переживание стыда за перепивших функционеров ЦК КПСС — является результатом занятия им «экспертной» — т. е. властной — позиции: вместе с датскими пассажирами и работниками аэропорта Каструп он наблюдает за их поведением со стороны, оценивая его; в отличие от датчан, Григорьев болезненно ощущает свое единство с советскими функционерами, которое он пытается скрыть в начале путешествия из посольства в аэропорт («чтобы избавить прохожих от позорного зрелища»). Переживание стыда в конечном итоге ведет его к политическому высказыванию — то, что он ретроспективно обозначает как утраченную веру в КПСС. При этом данный опыт не привел к появлению диссидента. Григорьев продолжил службу в КГБ; в публикации 2009 г. он позиционировал себя как сторонник сильной государственной власти в России и противник западного влияния [81].
Можно, таким образом, констатировать, что переживание стыда в символическом пространстве, созданном западным взглядом, имело довольно общий и предсказуемый эффект: оно выталкивало советского субъекта из позиции наблюдаемого на экспертную позицию. Оказавшись на ней, он начинал производить политические высказывания, в которых критиковал сложившийся политический и социальный порядок. Иными словами, движение субъекта внутри аффективной экономики западного взгляда (от ожидаемой гордости к переживаемому стыду) приводило к негативной политизации советского человека.
Все эти градации не предполагали выхода из господствующего символического порядка. Критические высказывания по отношению к советской номенклатуре или официальной политике в анализируемых мной случаях возникали на одной и той же символической позиции и являлись родовым, а не видовым признаком самых разных советских субъектов: знаком их общности, а не различия. Возникавшие в символическом пространстве игры на западную аудиторию, эти высказывания парадоксальным образом усиливали советскую идентичность их авторов и воспроизводили дискурсивные структуры власти. Политическая проблема, которую они формулировали, заключалась не в вопросе, выступать или не выступать на международной сцене; вопрос состоял в том, как улучшить это выступление так, чтобы не было стыдно перед иностранной публикой.
Возможности западного взгляда в подобном аффективном менеджменте советской субъективности, впрочем, не исчерпывались генерацией критических высказываний. Стыд, переживаемый как неспособность советского коллективного «я» достойно выступать на международной сцене, предлагал в качестве решения мимикрию и другого рода: смещение на позицию самого западного наблюдателя, ради которого и затевался советский спектакль. В позднем социалистическом обществе можно найти бесчисленное множество этих смещений, материализовавшихся во вкусе к западным вещам и культуре [82]. Среди них представляется симптоматичным приведенное ниже высказывание, автор которого вспоминает о своей поездке в ГДР в начале Перестройки:
«Моя самая первая поездка была в ГДР <…> [где я] купила себе белые джинсы и черный пиджак, и туфли Gabor — зеленая замша на черном крокодиле <…> Я ходила в этих белых штанах и в зеленом крокодиле по мерзкому своему городу, и мне казалось — такой персонаж, как я, слегка улучшает ландшафт. Вокруг были кофты с начесом и перламутровые помады, а на мужиков лучше было вообще не смотреть, и посреди этого безобразия я смотрелась как туристка, которой через три дня положено отвалить к себе домой, в край белых штанов. Ничего было не сделать с этим ландшафтом, ничего. Сколько я потом ни ездила, сколько ни добывала, ни волокла коробами, караванами, сколько ни наряжала всех своих, сколько ни тащила в дом изящных, удобных, нездешних вещей — ландшафт от этого никак не менялся, ни ветерка, ни ряби, эта бездна поглощала все без следа» [83].
Белые штаны — явная аллюзия на Остапа Бендера — и крокодиловые туфли обладают в этом тексте властью, радикально смещающей автора в советском символическом пространстве [84]: они превращают ее из наблюдаемого в наблюдателя, взору которого открывается и советское коллективное тело, и городское пространство. Это смещение вызывает эффект остранения, почти по Шкловскому, в результате чего советские женщины даются в восприятии автора через деталь одежды и косметики, а Ленинград из «своего города» превращается в «этот ландшафт» и «эту бездну» [85]. Остранение советского ландшафта и коллективного тела позволяет избежать стыда и связанной с ним советской самоидентификации. Аллюзия на Остапа Бендера не случайна: западные вещи наделяют автора, по сути, трикстерским умением перехода из одной символической позиции на другую [86]. В советском культурном производстве эта тактика ухода от идентификации себя с советским человеком стала объектом жесткой критики: «Крокодил» публиковал многочисленные карикатуры, высмеивающие стремление отдельных советских людей выглядеть «по-иностранному», а в кинематографе и литературе любовь к импортным вещам стала устойчивой характеристикой отрицательных героев как героев «несоветских».
Но важно и другое: ускользание советских людей из символической позиции наблюдаемых на позицию западного наблюдателя не выводило советского субъекта за рамки советского же символического пространства, а являлось, если рассматривать это в лакановских терминах, культурной фантазией — сбоем в структуре символического порядка, вызванным несоответствием советского коллективного тела и ландшафта идеалу светскости [87]. Подобно тактикам повседневной жизни, описанным Мишелем де Серто в «Изобретении повседневности» [88], переход на позицию западного наблюдателя позволял советским людям, пойманным в дисциплинарные сети советского символического порядка, переосмыслить и переопределить свое личное место в советском социальном пространстве. Но в отличие от героев де Серто, действующих «до текста» [89] и благодаря этому переопределяющих своими тактиками социальное пространство, переход на позицию внешнего наблюдателя через вкус ко всему западному не расшатывал его, а следовал по траектории (наблюдаемый — эксперт — наблюдатель), заданной советской культурной логикой, начиная с ее ранних культурных репрезентаций советского общества, стройными колоннами марширующего под взглядом «мистера Запада».
Этот переход, в
Примечания
* Выражаю благодарность Михелю Абессеру, Тиму Бруку, Энн Горсач, Дитмару Нойтатцу, Юлии Обертрайс, Галине Орловой, Алексею Попову, Анастасии Роговой, Ольге Смоляк, Ирине Такале, Александру Толстикову, Сэму Хирсту и Сергею Ушакину, а также двум анонимным рецензентам и редактору сборника Анатолию Пинскому за ценные комментарии и замечания к различным вариантам, фрагментам и идеям данного текста. Его ранние версии были представлены в форме докладов на семинаре кафедры новейшей и восточноевропейской истории Фрайбургского университета (апрель 2012 г.) и конференции “East-West Cultural Exchanges and the Cold War” (Ювяскюльский университет, май 2012 г.).
[1] Документы свидетельствуют: смотрели за каждым. О романах Ивана Ефремова «Туманность Андромеды» и «Час Быка» // Вопросы литературы. 1994. No 3. С. 241.
[2] Ефремов И.А. Переписка с учеными. Неизданные работы. М.: Наука, 1994. С. 264.
[3] См., напр.: Неелов Е.М. Заветы мудреца Эрфа Рома // Ефремов И.А. Час Быка. Петрозаводск: Карелия, 1991. С. 420–423.
[4] Медведев Ю. Свет над озером мрака // В мире фантастики: сб. лит.-крит. статей и очерков / сост. А. Кузнецов. М.: Молодая гвардия, 1989. С. 101– 112.
[5] Ефремов И.А. Как создавался «Час Быка» // Молодая гвардия. 1969. No 5. C. 307–320, здесь с. 310.
[6] Foucault M. Power/Knowledge: Selected Interviews & Other Writings, 1972– 1977 / ed. by C. Gordon. New York: Pantheon Books, 1980. P. 117. (Перевод мой. — А. Г.)
[7] Холландер П. Политические пилигримы: путешествия западных интеллектуалов по Советскому Союзу, Китаю и Кубе, 1928–1978. СПб.: Лань, 2001; David-Fox M. Showcasing the Great Experiment: Cultural Diplomacy and Western Visitors to Soviet Union, 1921–1941. Oxford: Oxford University Press, 2012.
[8] Фюре Ф. Прошлое одной иллюзии. М.: Ad Marginem, 1998.
[9] Malia M. Russia under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999; Голубев А. В. «Взгляд на землю обетованную»: из истории советской культурной дипломатии. М.: ИРИ РАН, 2004; Куликова Г. Б. Новый мир глазами старого: Советская Россия 1920–1930-х годов глазами западных интеллектуалов. М.: ИРИ РАН, 2013.
[10] Горсач Э. Выступление на международной сцене: советские туристы хрущевской эпохи на капиталистическом Западе // Антропологический форум. 2010. No 13. С. 359–388; Gorsuch A. All This Is Your World: Soviet Tourism at Home and Abroad after Stalin. Oxford: Oxford University Press, 2011 (статья в «Антропологическом форуме» является переводом четвертой главы данной монографии); Хрипун В.А. Иностранцы в Советской России в 1950-е — 1960-е гг. Дисс… канд. истор. наук. СПб., 2011; Попов А. Д. «Марафон гостеприимства»: Олимпиада-80 и попытка модернизации советского сервиса // Cahiers du Monde russe. 2013. Vol. 54. N 1–2. P. 265–295.
[11] Bittner S. The Many Lives of Khrushchev’s Thaw: Experience and Memory in Moscow’s Arbat. Ithaca: Cornell University Press, 2008. P. 66–67, 141; Koivunen P. Performing Peace and Friendship: The World Youth Festival as a Tool of Soviet Cultural Diplomacy, 1947–1957. Ph. D. dissertation. University of Tampere, 2013. P. 151–332.
[12] Caute D. The Dancer Defects: The Struggle for Cultural Supremacy during the Cold War. Oxford: Oxford University Press, 2003; Прозуменщиков М.Ю. Большой спорт и большая политика. М.: РОССПЭН, 2004; Reid S.E. Soviet Responses to the American Kitchen // Cold War Kitchen: Americanization, Technology, and European Users / ed. by R. Oldenziel, K. Zachmann. Cambridge, MA: MIT Press, 2009. P. 83—112.
[13] David-Fox M. The Implications of Transnationalism // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2011. Vol. 12. N 4. P. 885–904.
[14] О современных дисциплинарных системах, формируемых через определенные визуальные режимы, см. Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999; Crary J. Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century. Cambridge, MA: MIT Press, 1990.
[15] Лакан Ж. Семинары. Книга 11: Четыре основные понятия психоанализа / пер. А. Черноглазова. М.: Гнозис/Логос, 2004.
[16] Mulvey L. Visual Pleasure and Narrative Cinema // Screen. 1975. Vol. 16. N 3. P. 6–18; Copjec J. The Orthopsyсhic Subject: Film Theory and the Reception of Lacan // October. 1989. N 49. P. 53–71.
[17] Альтюссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства (заметки для исследования) // Неприкосновенный запас. 2011. No 3. С. 14–58; Жижек С. Возвышенный объект идеологии / пер. с англ. В. Сафронова. М.: Художественный журнал, 1999; Butler J. Excitable Speech: A Politics of the Performative. New York: Routledge, 1997.
[18] Орлова Г. «Заочное путешествие»: управление географическим воображением в сталинскую эпоху // Новое литературное обозрение. 2009. No 100. С. 266–285; Орлова Г. «Карты для слепых»: политика и политизация зрения в сталинскую эпоху // Визуальная антропология: режимы видимости при социализме / сост. Е. Ярская-Смирнова, П. Романов. М.:
[19] Я использую понятие «аффект», а не «эмоция», чтобы подчеркнуть внесубъективный, социальный характер (советских) гордости и стыда. Подробнее о понятиях аффекта и аффективного менеджемента применительно к советскому и постсоветскому обществу см.: Ушакин С. Вспоминая на публике: oб аффективном менеджменте истории // Гефтер.ру, 14 ноября 2014 г. (URL: http://gefter.ru/archive/13513; дата доступа 22.04.2016). Данный текст является переводом англоязычной статьи: Oushakine S. Remembering in Public: On the Affective Management of History // Ab Imperio. 2013. N 1. P. 269–302.
[20] Sedgwick E.K. Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity. Durham: Duke University Press, 2003; Ahmed S. The Cultural Politics of Emotion. London: Routledge, 2004.
[21] О роли понятия «Запад» в дореволюционной культуре (включая политическую культуру) см., напр.: Neumann I. Russia and the Idea of Europe: A Study in Identity and International Relations. London: Routledge, 1996. P. 1–102; Христофоров И.А. Аристократическая оппозиция Великим реформам (конец 1850-х — середина 1870-х гг.). М.: Русское слово, 2002.
[22] Из новейших работ о культурной дипломатии довоенного периода см.: David-Fox M. Showcasing the Great Experiment; Куликова Г. Б. Новый мир глазами старого.
[23] Тарле Г.Я. Друзья страны Советов: участие зарубежных трудящихся в восстановлении народного хозяйства СССР в 1920–1925 гг. М.: Наука, 1968; Журавлев С. В. «Маленькие люди» и «большая история»: иностранцы московского Электрозавода в советском обществе 1920–1930-х гг. М.: РОССПЭН, 2000; Golubev A., Takala I. The Search for a Socialist El Dorado: Finnish Immigration to Soviet Karelia from the United States and Canada in the 1930s. East Lansing: Michigan State University Press, 2014.
[24] Цит. по: Большаков В. Правда о Стране Советов и Соединенные Штаты Америки // Писатели США о Стране Советов. Л.: Лениздат, 1983. С. 294.
[25] Горький М. Речь на заседании пленума Московского Совета // Горький М. Собрание сочинений: В 30 тт. Т. 24. Статьи, речи, приветствия, 1907–1928. М.: Художественная литература, 1949. С. 369–370. Впервые опубликовано в: Правда. 1928. 1 июня.
[26] David-Fox M. Showcasing the Great Experiment. P. 98–141.
[27] Эйдельман Н.Я. Гости Сталина // Два взгляда
[28] Советская Карелия. 1934. No 11–12. С. 37.
[29] Советская Сибирь. 1932. 9 сент. С. 4.
[30] Советская Сибирь. 1932. 22 сент. С. 4.
[31] Напр.: Советская Сибирь. 1932. 11 окт. С. 4; Красная Карелия. 1932. 15 янв. С. 2; Красная Карелия. 1932. 4 мая. С. 2.
[32] Вертов Д. Киноки. Переворот // Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М.: Искусство, 1966. С. 50–58.
[33] David-Fox M. Showcasing the Great Experiment. P. 285–311.
[34] Журавлев С. В. «Маленькие люди» и «большая история»: иностранцы московского Электрозавода в советском обществе 1920-х — 1930-х гг. М.: РОССПЭН, 2000. С. 272–273.
[35] Понятие идеологического оклика, обладающего способностью ситуационно формировать субъективность, заимствовано Батлер у Луи Альтюссера, см.: Альтюссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства. С. 14–58.
[36] Butler J. Excitable Speech. P. 26, 36. Об этом же рассуждает сам Альтюссер, когда говорит о том, что на оклик откликается тот, кто к этому внутренне готов.
[37] Пиа Койвунен упоминает в этом контексте медиаподготовку, предшествующую фестивалю в центральной прессе и, как следствие, адресованную широкой национальной аудитории: Koivunen P. Performing Peace and Friendship. P. 183–194.
[38] Национальный архив Республики Карелия (далее — НАРК). Ф. П-779. Оп. 33. Д. 17. Л. 1–22.
[39] Ленинская правда (КАССР). 1957. 14 апр., 20 апр., 20 июня; Комсомолец (КАССР). 1957. 22 июня.
[40] НАРК. Ф. П-779. Оп. 33. Д. 17. Л. 7.
[41] Там же. Л. 52.
[42] Ленинская правда. 1957. 13 апр. С. 4.
[43] НАРК. Ф. П-779. Оп. 33. Д. 18. Л. 1.
[44] Там же. Л. 4.
[45] Схожую культурную логику, хоть и не привязанную к одному внешнеполитическому событию, прослеживает Мария Майофис в своей статье, помещенной в данном сборнике и посвященной истории детских хоровых студий периода оттепели. Анализируя формы субъективации, присущие хоровому движению в СССР «после Сталина», Майофис указывает: «Новый советский субъект, выходящий из стен детских хоровых студий, должен был быть максимально дисциплинированным, ответственным, эстетически развитым <…> Эту модель субъективности (и сопутствовавшую ей модель коллективности) новый детский хор должен был транслировать не только своим исполнением, но самим внешним видом» (наст. изд., с. 101).
[46] Горсач Э. Выступление на международной сцене.
[47] См. статью Ильи Кукулина в этом сборнике.
[48] Наиболее драматично процесс получения загранпаспорта описан Михаилом Восленским: Восленский М.С. Номенклатура: господствующий класс Советского Союза. М.: Советская Россия; МП «Октябрь», 1991. С. 420–433. См. также: Прозуменщиков М.Ю. За партийными кулисами; Попов А.Д. Советские туристы за рубежом: идеология, коммуникация, эмоции (по отчетам руководителей туристских групп) // Історична панорама: Зб. наук. статей. Чернівці, 2008. Вип. 6. С. 50–52; Gorsuch A. All This is Your World. P. 81–84, 111.
[49] Коткин С. Говорить по-большевистски // Американская русистика: вехи историографии последних лет. Советский период: антология / сост. М. Дэвид-Фокс. Самара: Самарский университет, 2001. С. 250–328.
[50] Речь идет об организованной подготовке к зарубежным поездкам, включавшей в себя, например, заучивание ответов на «провокационные» вопросы; типовым изданием для этой подготовки выступала книга «СССР: 100 вопросов и ответов» (одно из многочисленных изданий — М.: АПН, 1980).
[51] А.Я. Гуревич, например, пишет о том, что руководство различных институтов РАН регулярно использовало приглашения, направленные их подчиненным на научные мероприятия за рубежом, для своих поездок вместо «неблагонадежных» подчиненных, в том числе самого Гуревича: Гуревич А. История историка. М.: РОССПЭН, 2004. С. 94–95. См. также: Нагибин Ю.М. Дневник. М.: Книжный сад, 1996. С. 220–222.
[52] Golubev A. Neuvostoturismin ja läntisen kulutuskulttuurin kohtaaminen Suomessa // Historiallinen aikakauskirja. 2011. N 4. S. 423.
[53] Основные правила поведения советских граждан, выезжающих за границу (URL: http://www.krotov.info/lib_sec/12_l/lub/yanka.htm; дата доступа 01.02.2015).
[54] Эта балансировка между аффектами гордости и стыда в заграничной тур-поездке хорошо показана в исследовании Игоря Нарского: Нарский И. Между советской гордостью, политической бдительностью и культурным шоком: американские гастроли народного ансамбля танцев «Самоцветы» в 1979 году // Cahiers du Monde russe. 2013. Vol. 54. N 1–2. С. 329–352.
[55] Так, широко известен тот факт, что советская промышленность ранжировала производство по качеству: товары лучшего качества предназначались на экспорт, товары более низкого качества оставались в советской экономике. См., напр.: Gronow J. Caviar with Champagne: Common Luxury and the Ideals of the Good Life in Stalin’s Russia. Oxford: Berg, 2003.
[56] О «работе зрения» см., напр.: Орлова Г. Карты для слепых.
[57] Новости дня. Вып. 41 (октябрь 1957 г.), реж. М. Семенова; Новости дня. Вып. 42 (октябрь 1957 г.), реж. М. Слуцкий; «Первые советские искусственные спутники Земли» (1957 г.), реж. М. Славинская и Н. Чигорин.
[58] «Человек вернулся из космоса» (1961 г.), реж. Е. Вермишева; «Первый рейс к звездам» (1961 г.), реж. И. Копалин.
[59] Новости дня. Вып. 18 (май 1961 г.), реж. И. Венжер (Чехословакия); Новости дня. Вып. 27 (июль 1961 г.), реж. И. Сеткина (Финляндия); Новости дня. Вып. 28 (июль 1961 г.), реж. Т. Лаврова (Великобритания); Новости дня. Вып. 9 (март 1962 г.), реж. Н. Соловьева (Кипр).
[60] Зиллиакус К. Пришел, увидел, победил // Огонек. 1961. No 30. С. 31.
[61] Любопытно, что видимым объектом являлся не сам спутник — маленький шар диаметром 58 сантиметров, — а вторая ступень ракеты-носителя, выведшей его на орбиту. На уровне репрезентаций этот факт, разумеется, опускался.
[62] Челкаш. Новая статуя в Москве // Крокодил. 1957. No 36. С. 7.
[63] Каптерева-Шамбинаго Т.П. Дома и за границей. М.: Новый хронограф, 2009. С. 268.
[64] Каптерева-Шамбинаго Т.П. Дома и за границей. С. 243.
[65] Медведева Н.Г. Мама, я жулика люблю! Нью-Йорк: Russica Publishers, 1988. С. 158.
[66] Вайнер А. А., Вайнер Г.А. Евангелие от палача. Нью-Йорк: Новое русское слово, 1991. С. 177.
[67] Данелия Г.Н.
[68] Григорьев Б.Н. Повседневная жизнь советского разведчика, или Скандинавия с черного хода. М.: Молодая гвардия, 2004. С. 157.
[69] Sedgwick E.K. Touching Feeling. P. 36.
[70] Ibid. P. 37.
[71] Лакан Ж. Семинары. Книга 11: Четыре основные понятия психоанализа. С. 83.
[72] Sedgwick E.K. Touching Feeling. P. 37.
[73] Паустовский К.Г. Краткая запись речи на обсуждении романа Дудинцева «Не хлебом единым» // Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е — 1980-е. Т. 1. Кн. 1 / под общ. ред. В.В. Игрунова; сост. М.Ш. Барбакадзе. М.: Междунар. ин-т гуманитарно-полит. исследований, 2005. С. 421.
[74] Там же. С. 422.
[75] Oushakine S.A. The Terrifying Mimicry of Samizdat // Public Culture. 2001. Vol. 13. N 2. P. 191–214 (русский перевод: Ушакин С.А. Ужасающая мимикрия самиздата // Гефтер.ру (URL: http://gefter.ru/archive/6204; дата доступа 18.03.2014)).
[76] Нагибин Ю.М. Дневник. С. 313–314. 77 Там же. С. 221, 223, 281, 290.
[78] Вишневская Г.П. Галина. История жизни. М.: Никея, 2011. С. 585.
[79] Ср. с высказыванием Нагибина, возмущавшимся его «невыпуском» в Австрию: «Почему [власти] не хотели, чтобы я прибавил уважения к марке “сделано в СССР”?» (Нагибин Ю.М. Дневник. С. 336).
[80] Григорьев Б.Н. Повседневная жизнь советского разведчика. С. 154–155.
[81] Григорьев Б.Н. Уроки холодной войны в Арктике // Холодная война в Арктике / сост. М.Н. Супрун. Архангельск: Солти, 2009. С. 367–373.
[82] См., напр., главу «Воображаемый Запад. Пространства вненаходимости позднего социализма» в: Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось: последнее советское поколение. 2-е изд. М.: Новое литературное обозрение, 2016. С. 311–403.
[83] В отдельно взятой // Блог Hava на LiveInternet.ru. 2010. 19 нояб. (URL: http://www.liveinternet.ru/users/hava/post141134527; дата доступа 05.04.2012). Я выражаю благодарность А.Д. Попову, обратившему мое внимание на этот текст.
[84] Об агентивности, или «власти», вещей см., напр.: New Materialism: Ontology, Agency, and Politics / ed. by D. Coole, S. Frost. Durham: Duke University Press, 2010, esp. Coole D., Frost S. Introducing the New Materialisms (p. 1–43); Bennett J. Vibrant Matter: A Political Ecology of Things. Durham: Duke University Press, 2010, esp. “The Force of Things” (p. 1–19); Ушакин С.А. Динамизирующая вещь // Новое литературное обозрение. 2013. No 120. С. 29–34.
[85] Шкловский В. Б. Искусство как прием // Шкловский В. Б. Гамбургский счет: статьи — воспоминания — эссе (1914–1933). М.: Советский писатель, 1990. С. 58–72.
[86] См. рассуждения Марка Липовецкого о данном умении советских трикстеров: Липовецкий М.Н. Трикстер и «закрытое» общество // Новое литературное обозрение. 2009. No 100. С. 224–245.
[87] О важности культурного идеала в формировании и последующем социальном взаимодействии аффектов стыда и гордости см.: Ahmed S. The Cultural Politics of Emotion. P. 112–113.
[88] Серто М. де. Изобретение повседневности. 1. Искусство делать. СПб.: Издательство Европейского университета в
[89] Де Серто, собственно, и начинает свою работу с изобретения нового языка описания, аргументируя это тем, что существующий научный (аналитический) язык не может описывать повседневность, а может лишь «захватывать» ее (там же, с. 63–80).