Отрывок из романа "Из-под ногтей"
МАЙОР: — воспроизведите дословно и поминутно тот вечер и утро, когда вас задержали.
На лестничной клетке пахло селедкой.
Пахнет селедкой. Какой день по всей лестничной клетке разносился приторно-едкий запах селедки и нигде, ни в одном углу не было от него спасения. Отвратительный, жуткий, противный запах смело завоевал весь этаж.
Пахло селедкой.
Это абсолютно точно. Я почти видел запах, как сейчас вижу вас.
Этот небольшой факт запаха исчерпывающе описывал всю человеческую жизнь, как будто в первый раз для ее описания подобрались правильные слова, но совсем не с помощью привычного нам языка. Через рыбную вонь наш мир говорил выразительно и прямо, незаискивающе, говорил честно, говорил открыто. Запах рыбы был красноречивей любых стихов, выразительней любой прозы или картины, живее любого вдоха и выдоха.
Сколько раз (много раз), проходил я по подъезду, сколько раз все мы обретаемся по бетонным просторам, задавленным болезненным желтушным светом, чтобы разойтись по своим склепам, скрыться за номерами обиталищ. Русская лестничная клетка всегда похожа на морг за каждой дверью с биркой прячется покойник. Открой дверь и за ней, увидишь, как в трупе, лишь истлевшее, выцветшее отражение жизни, отражение былого, цветущего.
Каждое утро зиккураты извергают мясо наружу, чтобы вечером вновь наполниться им до краев, чтобы опознавательные огни на крышах многоэтажных окраин больше напоминали костры жертвенников.
Вечер здесь всегда начинается одинаково.
Поезд пребывает на конечную станцию Тишина. Автостанция Тишина. Выход на правую сторону.
Когда едешь в поезде метро, кажется, что тоннель приплясывает как бешенная змея. Но сейчас подземное хладнокровное притаилось. Состав замер внутри бетонных кишок города. Чуть под наклоном. Из последнего вагона была видна анфилада стеклянных окон, убегающих немного вперед, были видны сонные, редкие и почти прозрачные люди, устало озирающиеся вокруг. Поезд замер, затихорился. Воздух пропитала маслянистая тишина, распластавшая свои скользкие крылья по всему вагону. Было слышно, как поворачивается время, как бытие саморазверзается под тобой. Секунды тянулись как тело на дыбе. Потом сплошную подземную, почти могильную, тишь нарушил клекот поезда где-то вдали.
=================================
Судороги, спазмы. И вагон помчался дальше, вперед, к депо, к конечной станции, к Тишине. Старый, богом забытый поселок на окраине города, обязанный своим названием распластавшимся вокруг него болотам. Поселок и не подозревавший об умении городов ходить, поселок, сам ставший городом, частью города, как муха становится пауком, его частью.
В Тишине можно обитать. Здесь есть все: бары, пабы, магазины разливного пива, табачные магазины, секонд-хенды, продуктовые магазины, магазины одежды, магазины сантехники, магазины мебели, магазины для детей, магазины для беременных, магазины для рыбалки, автомагазины, магазины фермерских продуктов, канцелярские магазины, аптеки, оптика, спортивные магазины, закусочные, рестораны, забегаловки, парковки, гаражи, детские площадки, комфортные однокомнатные квартиры, квартиры-студии, двухкомнатные, трехкомнатные, от первого до двадцать седьмого этажа, детские площадки, школы, детские садики, автобусы и маршрутки.
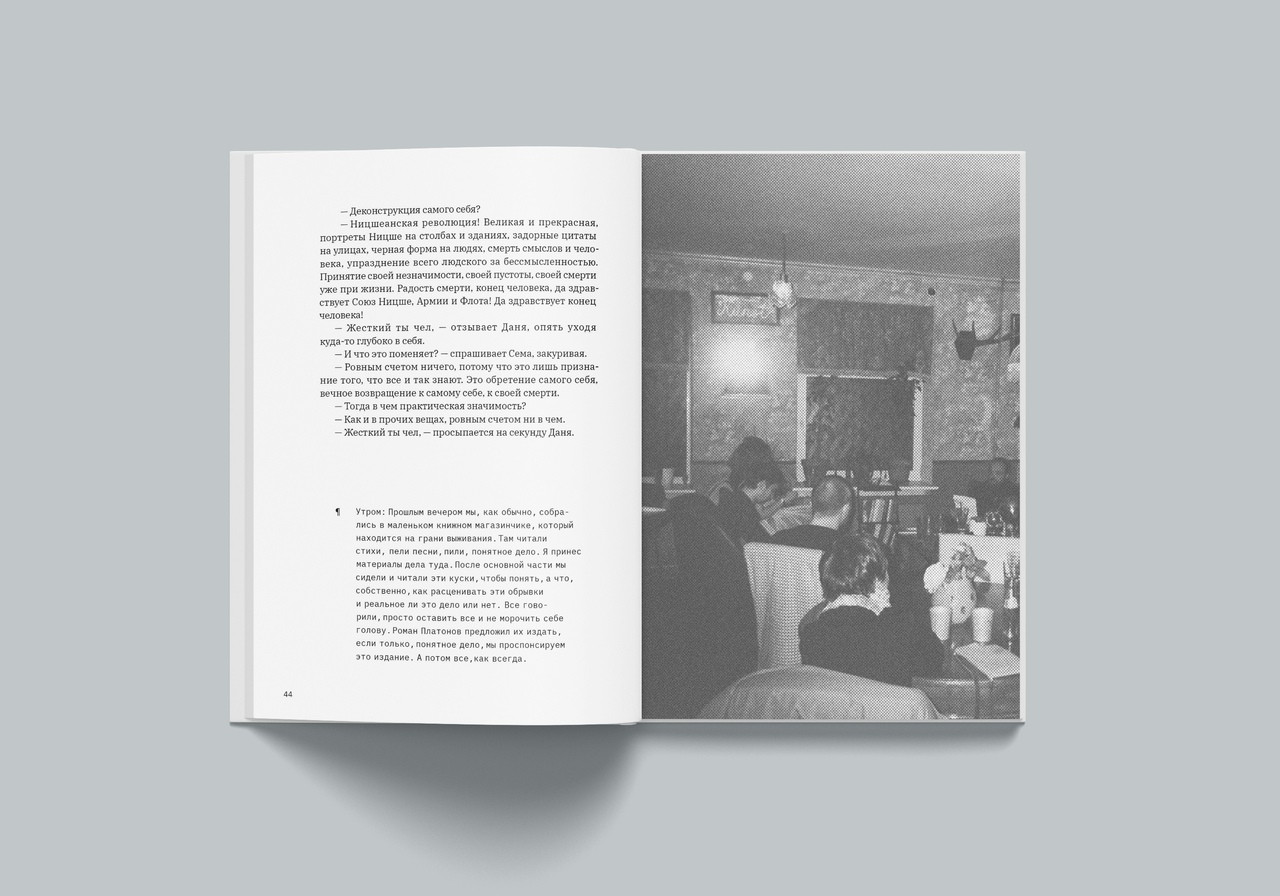
И ничего больше. Поэтому жить в Тишине невозможно. Высотные дома, как огромные рубцы, как шрамы разрезали пространство земли и неба, сломав границу между высшим и низшим, пустив на высоту серое племя, воздвигнувшее идолы древних богов. Двадцатисемиэтажные дома впились в небо своими зубами, и, бешено вращая сотнями глаз, все глубже врастали шершавыми корнями в осушенные болота бывшего поселка.
Мне иногда казалось, что сверху эти гиганты похожи на огромные грибы, выросшие на трупе, грибы, по которым бегают тысячи жучков. Замёрзший указатель времени прибытия транспорта сломан. Возле привычного номера маршрута сквозь наледь еле долетают очертания ноля. В воздухе морозная дымка. Сквозь нее не видно дорогу, но иногда мимо проползают редкие автомобили.
Холодно. В Тишине всегда холодно. В Тишине насквозь морозно и ветрено.
Сначала виден лишь подсвеченный силуэт, потом из дымки вываливается гробообразное желтое тело автобуса. С его крыши легкими струйками слетает снег. Гроб немного покачивает на дорожной каше.
Люди вываливаются наружу, другие заползают внутрь. Дальше. Свет из окон домов льется, как от затухающих свеч в церкви. Тысячи свечных огарков проносятся мимо в окне автобуса, пока я еду на окраину Тишины, которая на окраине города. В самую окраину. Окраины выматывают, высасывают, высмеивают. Окраины пусты и тупы. В их нет никакой эстетики, романтики, нет никакого шарма. Окраины — это вечная толпа, вечное свиное рыло, вечная пыль, стройка, шум машин, крик детей, пьяный ор, визг стиральной машины. На каждой остановке полупрозрачные, почти пустые силуэты выходят из автобуса и исчезают в объятьях морозной дымки. Морозной дымки, красной от городского электрического зарева.
Конечная.
Рядом с остановкой из земли торчит проржавленная трубка, поднявшая свое длинное горло к небу. Трубка, застывшая в вечном крике. Я один выхожу на конечной остановке, отсюда видно, как город заканчивается темными порослями деревьев, которые снаружи похожи на легкие орнаменты паутинок. Но чем ближе подходишь к деревьям, тем отчетливее ветки становятся похожи на руки. Руки тянутся к тебе, зовут. Среди деревьев постоянно кто-то проходит. Эти темные силуэты, которые еле заметны глазу, которые еле замечаешь, а потом убеждаешь себя, что ничего не видел. Эти силуэты боятся света, они живут в деревьях, не подходят к городу, но и к деревьям не стоит идти. В глубине поросли стоят расселенные советские серые пятиэтажки. Иногда силуэты вместе с деревьями заходят внутрь, грохают дверьми и зажигают огни.
По другую сторону остановки, среди человеческих волн тихо барахтался, ухватившись своими зубами за небо, огромный, высокий дом. Во дворе дома от сотворения мира велась стройка школы, шумная, крикливая. Утром сотни рабочих длинной печальной вереницей следовали в объятья синего забора, а вечером также печально возвращались обратно. Недостроенная школа возносилась высоко, упираясь своими верхними этажами в твердь.
У входа внутрь несли вечную вахту покоцанные бетонные урны, из которых
постоянно извергались потоки мусора в основном пластиковые бутылки
На лестничной клетке пахнет селедкой. Круг замкнулся, запах поставил точку в бесконечном колесе вопросов. Лязг костей, ключ открывает дверь.
Надо вынести мусор.
Надо почистить картошку.
На улице уже не кричат гуляющие дети, сейчас там стало Тихо, если не считать редкого лая собак. Иногда завывает ветер. Если на секунду закрыть глаза, кажется, что ты на огромном корабле, устремленном вдаль. Рассекающий море, уходящий далеко. В Аргентину, наверное. Дом «Тишина-Аргентина». Твое лицо ласкает легкий морской ветер, а яркое солнце приятно греет кожу.
Лишь на секунду.
Достаточно моргнуть.
Пахнет селедкой.
Надо вынести мусор.
Надо почистить картошку.
Шаги по лестничной клетке сливаются с шорохом между стен, с бегающими там тенями и смеющимися голосами. Ты выходишь обратно на улицу, где еще идет снег.
Тебе лет десять, ты идешь по тому маленькому городу, из которого приехал, но в котором останешься навсегда. В те десять лет ты еще не знал, что из себя самого невозможно уехать. Темное зимнее русское небо нависает над тобой необходимой тяжестью, родовым проклятьем, а в него вгрызаются серые пяти/девяти/трех этажки
* * * * *
* * *
* * *
К, а к, а я р, а з н и ц, а
с к о л ь к о
т, а м э т, а ж е й ?
* * * *
Тебе десять лет. Спокойный снег падает с неба. Морозный воздух прорезан электрическим светом и в этом и есть жизнь. В этом и есть Бог. Ты никуда не уехал, потому что нельзя уехать от Бога. Тебе все еще десять лет. В этом и есть жизнь.
В мусорных баках копались три бомжа, их даже не спугнул плюхнувшийся рядом пакет.
Прах к праху.
-Миха, — прохрипел один из темных, обкорнанных силуэтов, — смотри, что нашел.
Он поднял вверх игрушечного синего матроса, старую советскую игрушку.
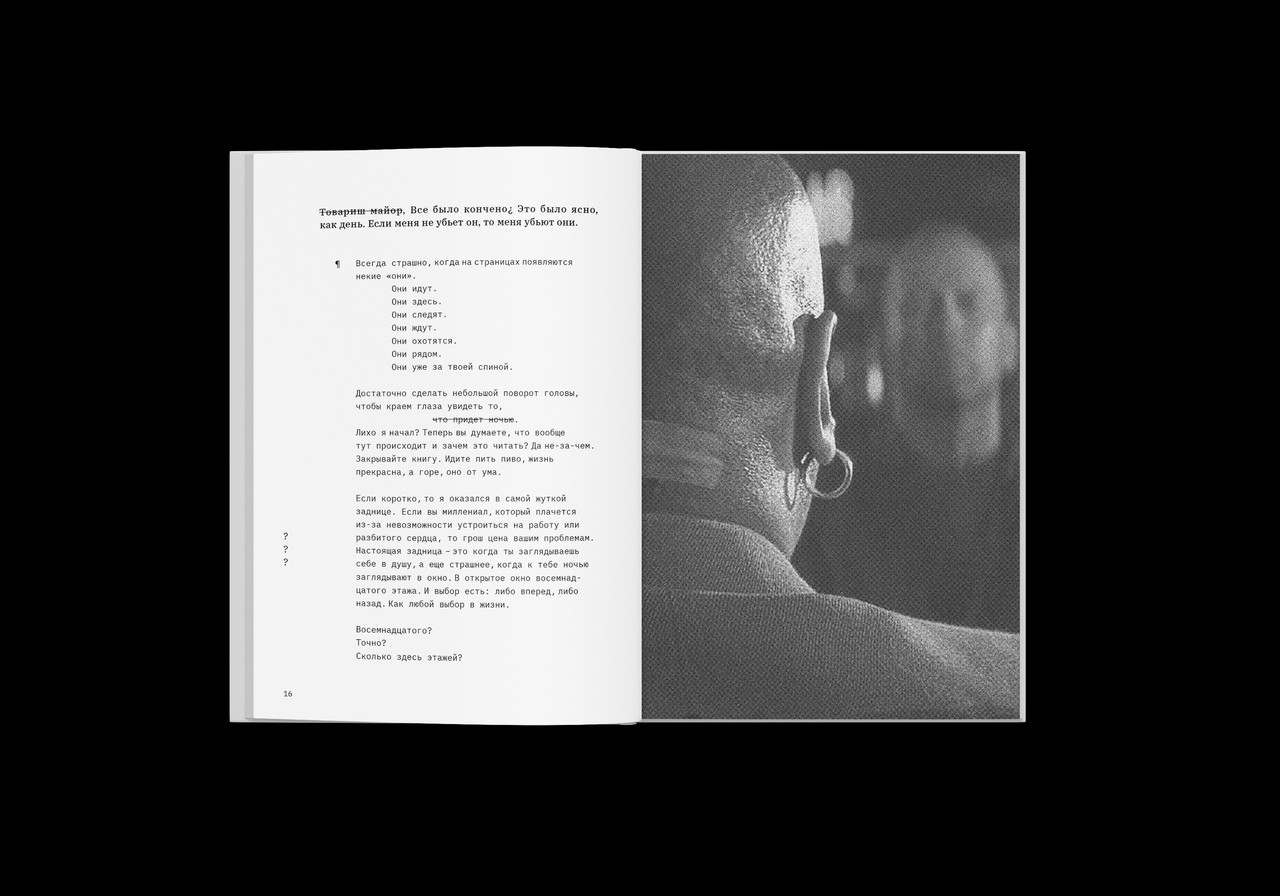
-У меня такой в детстве был, — отозвался Миха.
Он никуда не уехал.
Ему десять лет.
Синий матрос.
В этом и есть Бог?
-Слышал, — спросил Миха, тряся оборванным куском бумаги смотри, что нашел: говорят в той пирамиде кроется самая главная загадка человечества. Самое ужасное, что только может существовать! Необъяснимо, откуда он взялся и куда он идет, чего он хочет и чего боится. Но когда он начинает бояться! О, Господи, когда он начинает бояться, он готов сжечь весь мир дотла, вырвать из него душу, вытряхнуть наизнанку, уничтожить до основания он ужасен, он может разрушить все, все живое, что только может ему попасться. Он готов бить, бить своих родичей, до кровавых сгустков, до белой кости, до гниющей жижи до смерти, до уничтожения. Полностью. И самое ужасное, что может он умеет создавать. Ты бы знал, ты бы видел, сколько он может сделать, на что он способен, если бы не был таким животным.
-Прямо как я с похмелья, — весело отозвался своим гортанным, хриплым, как тысяча труб Иерихона, голосом, первый.
Третий задумчиво и обреченно копался в мусорке. Наступила Тишина. Третий всегда придает динамики, третий становится значимым другим для остальных двух, у них появляется слушатель, невольный зритель. Недаром все соображения ведутся на троих, недаром есть три богатыря, недаром
Православие. Самодержавие. Народность.
и
«Ленин Жил, Ленин Жив, Ленин Будет жить».
Прошлое, настоящее, будущее. Троица основоположна. Везде есть троица, даже в смене дня и ночи присутствует что-то имманентное третье, что-то, что позволяет дню и ночи наступать. В добре и зле есть что-то третье, что отличает одно от другого.
Я закурил. Пепел поднимался к небу. Пепел падал с неба. Бомжи постепенно сходят с ума. В стене снега было видно, как город пожирал темные деревья, в которых утопалистарые, расселенные дома. Никто не видел, как город съедает деревья, а я вижу. Аккуратно, постепенно, потихоньку, ветка за веткой. На секунду показалось, что в деревьях пробежал серый кот с зелеными глазами. Показалось настолько отчетливо, что невозможно было не поверить.
Я сделал несколько шагов, и вновь показалось, что под зарослями махнули хвостиком. Тогда я стал подходить ближе и ближе к деревьям. И чем ближе подходил, тем отчетливее ко мне тянулись, рвались, приближались. Снег превратился в пелену, снег перестал идти, была лишь черная пустыня с черным ветром над ней.
-Совсем дурак, стой, — услышал я сзади уже знакомый за сегодня клокочущий рык.
На секунду это вернуло меня обратно, снег даже ударил в лицо, но почти сразу же черные ветра над пустыней снова взяли верх.
ЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ
Рука упала на плечо.
В ноздри ударил запах пота.
-Не ходи туда, дурака кусок! — пророкотал рядом бомж.
Ветер? Пустыня?
-Не ходи туда, — слишком нервно сказал мне бомж, — люди там испаряются.
-Да-да, — завопили Иерехонские трубы из недр мусорного бака, — не лезь, они тебя сожрут.
-Или не тебя, — тихо, но слышимо добавил мягким, спокойным и нездешним голосом третий.
-Это место плохое, — опять сказал Миха.
-Есть места, которые знают все, — отозвался громом мусорный бак.
-Есть места, о которых знают некоторые, — опять погорланил бак.
-А есть места, которые сами себя не знают, — тихо отозвался третий.
Наступила Тишина.
В Тишине показалось, что где-то раздалось «мяу».
ЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ
МАЙОР: — Вы употребляли ли когда-нибудь наркотики?
Знаете, в моей квартире живет первозданная пустота, которой только и может быть человек. За пределами квартиры кто-то составляет рейтинги альбомов Pink Floyd, проводит лекции по феминистическим эпистемология, читает Германа Гессе, посещает концерты электронный музыки, восхищается выставкой Комара и Меламида, всерьез верит в актуальность Фриды Кало, путешествует по Амстердаму или Италии, собирается в барах, посещает книжные магазины, покупает диссертации по проблематике политической теологии, гуляет по Городу, записывает клипы, играет музыку, знакомится с девушкой или с парнем.
МАЙОР: -значит употребляли?
На окраинах. Все, что у тебя остается — это чувствовать черную точку внутри, абсолютную пустоту, которая единственное, что у тебя есть на самом деле. Здесь, в окружении мебели, в пространстве одной комнаты у тебя одна перспектива — из окна.
Смотря из окна на утопающие в снегу грузные дома, чувствуется настоящая природа человека. То есть, ничего.
Есть лишь небольшие напыления в виде Города, способные заставить поверить в идею человечества, или, что еще хуже прогресса, но все оно разбивается, когда ты видишь припаркованную на газоне машину или новое граффити в лифте. Все разбивается о грохающую колючую музыку по ночам и пьяные крики во дворе. Прогресс, как и человек, существует в виде абстракции.
Кочевники знают это как никто. Кочевники познают абсолютную природу круга, его сущность. Все есть круг. Все возвращается обратно. На места свои. Есть только движение. Без цели. Это и есть жизнь.
Если в комнате живу я, то на кухне обосновался Сема, мой старый друг, временно расположившийся здесь ввиду жизненных обстоятельств. Семен происходит из того разряда друзей, с которыми вы редко видитесь, но рядом с которыми оба чувствуете дрожь земли, чувствуете ее безосновательность и посему верите в существование Бога. Теперь я чувствую присутствие Бога постоянно.
Иногда к нам заходят Даниил, студент-религиовед, с которым типичные разговоры перерастают в бесконечные обсуждения чего-то, как кажется, возвышенного, но на самом деле, по большому счету, ненужного.
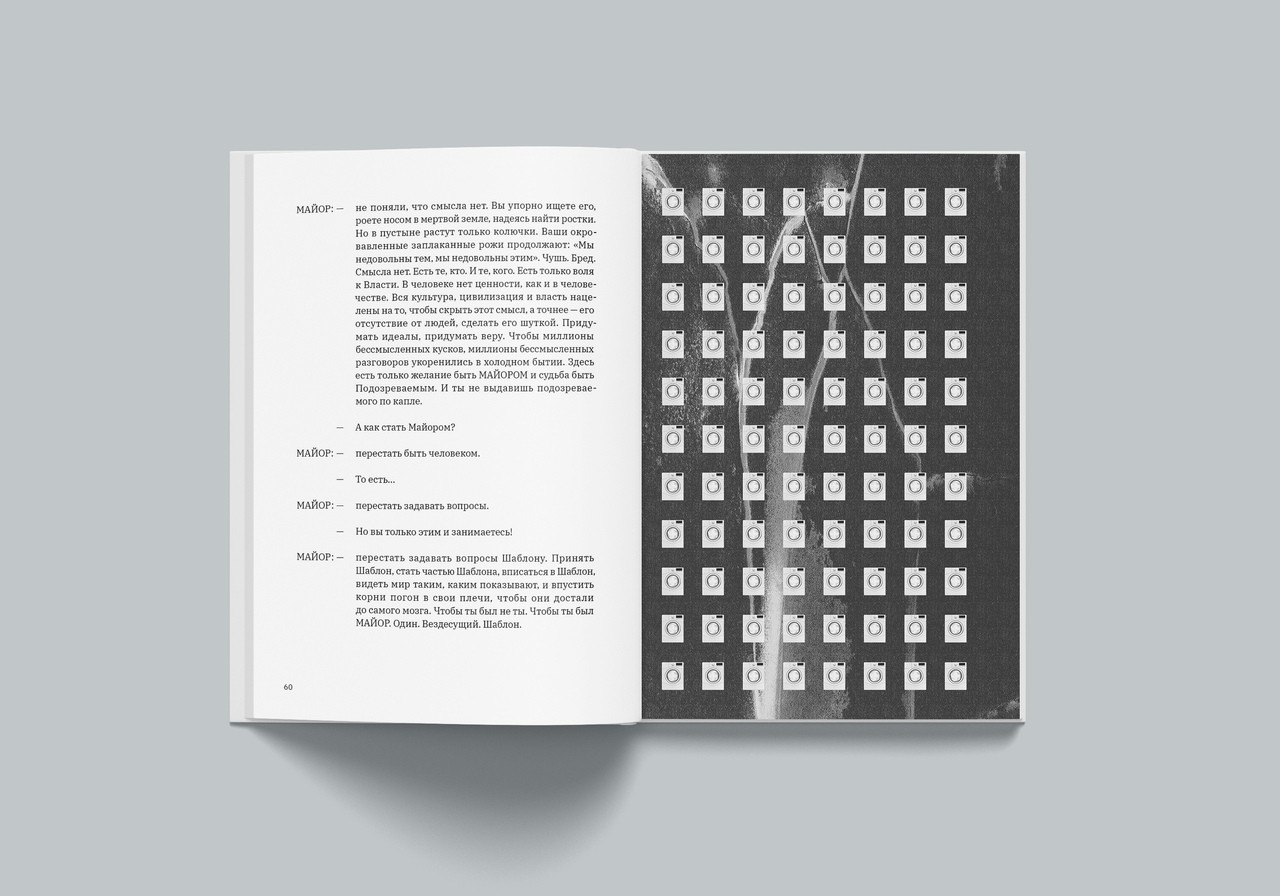
Даня, грузный, большой парень с юга нашей необъятной страны, типичный представитель гордой Кубани, курит траву или употребляет другие наркотики. Мне кажется, что Даня только и делает, что употребляет наркотики. Точнее не так, в обычное время он не сам не свой, его нет, Даней он становится только когда соприкасается с прелестным и дурманящим опиумом.
Вот. На моей кухне кто-то опять курит траву, только на этот раз нет рыжих волос. Мы трое. Все трое бежали из разных концов необъятного пространства, чтобы оказаться снова на Окраине. Чтобы все наши мечты и чаяния разбились о кухонный стол.
Рыжие волосы. Может быть только они остались где-то в ворохе мусора или в дальних углах квартиры, из которых по ночам вылезает что-то тянущееся к тебе, тех углах квартиры, о которых и не подозреваешь. Тех коридорах ночной квартиры, которые множатся и смотрят тебе в спину до миллионов мурашек, которые пронзают тебя по ночам, когда ты остаешься один.
Частенько Данька приносит траву и мы раскуриваем на троих на кухне, чтобы потом под звуки музыки думать каждый о своем, думать свои мысли, каждую из которых можно свести к
Каждый обречен
Каждый одинок
-Смотри, если мы опять говорим о человеке, то необходимо понимать, что человек — всего лишь человек, ни больше, ни меньше, — говорит Сема, в третий раз, наверное, заваривая чайник с
-Слова не мальчика, но мужа! — с явной иронией отвечаю я.
-Оставьте свои риторические приемы для общения с дамами, падкими на столь дешевые выпады, либо для ваших малотиражных книг, — отвечает Семен, проливая немного кипятка на пол, — я имею ввиду, что понятие человека не может быть расширено до
-Жесткий ты чел, — говорит Данька, затягиваясь очередным косяком, уходя куда-то в сплошное молчание.
-Получается, что мы не можем понять человека, как и не можем его характеризовать, просто потому что находимся внутри самих себя? — спрашиваю я.
-Не только, — Сема разливает чай по кружкам, — суть такова, что мы не можем характеризовать мир, даже этот чайник, потому что в центре нашего понимания находимся мы сами. Чайник в своей природе выпадает из этого пространства человека, он является всего лишь нашим атрибутом, возникшим благодаря нам.
-Чайник — лишь придаток человека?
-В
-Это кстати очень хорошо видно на примере секс-игрушек. Кому-то не хватает только своего тела или только своей части тела, и он дополняет их внешними атрибутами.
-Но ведь человеческое тело все равно уже, нежели атрибуты, которыми он владеет.
ʎʚоvоɹ qɯʎнdǝʚоu онҺоɯɐɯɔоɓ ˙n̯ониuɔ ɐε ǝжʎ ино ˙иdɯоwɔоu
-Безусловно, но если человек остается без руки, или если у человека их больше, чем две, или если человек держит в руке копье, что является продолжением руки? Разве эти три ситуации не человек? Получается, что в таком случае мы должны использовать каждый раз «человек с копьем», но таких очень много, поэтому нам придется до бесконечности конкретизировать, например, «человек с копьем в желтой рубашке, синих брюках, испачканных внизу правой штанины, в коричневых кроссовках с белыми шнурками, с черными волосами, прямым длинным носом, в очках с квадратной оправой, бледной кожей, прыщиком на правой щеке, которого зовут Олег, родился он в городе Балахна и проживает в городе Минусинск», вот тогда наша абстракция будет исчерпывающей, но не факт. Посему просто называем его «человек» как основная родовая характеристика, снимая все дополнительные характеристики.
-Коллега, я понял ваши тезисы, но этого недостаточно для получения статуса доктора наук, простите, решением совета, вам было отказано.
-Если ты перестанешь шутить, — продолжает Семен, — то поймешь, что человек никогда не сможет ничего определить, потому что на определение всего вокруг у него уйдет огромное количество времени. Поэтому он сохраняет свою версию в виде книги или музыки, надписи на стене, но следующий человек не понимает всего, потому что
Каждый одинок
Каждый обречен
и получается фундаментализм, радикализм и просто какой-нибудь вшивый троцкизм, короче, попытка истолковать то, что ты по определению не понимаешь.
-Это все прекрасно, но у вашего рецензента из Самарского Государственного есть вопрос, а именно, какова практическая значимость вашего исследования? Что вы предлагаете делать?
-А вот этого я не знаю. отвечает Сема, прихлёбывая чай.
-Тогда позвольте внести коррективы в вашу теорию? Мы полагаем, что человек должен признать свою пустоту, свою недосказанность и свое бессилие. Гордыня — главный бич человечества, его родовое пятно, его образ Давида, склоняющегося над Голиафом. Человек должен убить человека, того самого человека о котором вы, коллега, говорили, убить человека в самом себе, освободить все вокруг от человеческого, потому что сейчас над всем правит человек, а человек — ничто, как следствие, мира не существует.
-Деконструкция самого себя?
-Ницшеанская революция! Великая и прекрасная, портреты Ницше на столбах и зданиях, задорные цитаты на улицах, черная форма на людях, смерть смыслов и человека, упразднение всего людского за бессмысленностью. Принятие своей незначимости, своей пустоты, своей смерти уже при жизни. Радость смерти, конец человека, да здравствует Союз Ницше, Армии и Флота! Да здравствует конец человека!
-Жесткий ты чел, — отзывает Даня, опять уходя куда-то глубоко в себя.
-И что это поменяет? — спрашивает Сема, закуривая.
-Ровным счетом ничего, потому что это лишь признание того, чего все и так знают. Это обретение самого себя, вечное возвращение к самому себе, к своей смерти.
-Тогда в чем практическая значимость?
-Как и в прочих вещах, ровным счетом ни в чем.
