Письмо и паранойя: размышление о книге Ольги Сконечной «Русский параноидальный роман»
Метафорика «преследования» в разговоре о литературе всем памятна: автор преследует какую-то цель, образы следуют друг за другом, само письмо выслеживает и подмечает важные приметы героев. Такое следование за готовой волей образов не дает сбоев, когда литературное производство отлажено, когда романа ждут, чтобы узнать в нем себя и чтобы увлечься вымыслом, не обращая внимания на штампы — как ждут нового театрального и музыкального сезона или блокбастеров. Но когда произведение создается как нечто уникальное, как слепок души, как кардиограмма эпохи, знак восторга, философский манифест или психологический трактат — оно поневоле оказывается хоть немного заражено манией преследования. Федор Сологуб, как утверждает О. Сконечная, первый российский мэтр параноидального романа, мечтал о романах, героями которых будут герои Достоевского и Толстого, как боги и герои мифов стали персонажами античной трагедии. Но очевидно, что трагедия была славой мифа, была его наилучшим облачением в античном полисе, тогда как роман, в котором Плюшкин встречался бы с Мышкиным, был бы романом, в котором герой постоянно пытается угнаться за собственным словом, которое уже ему не подвластно. Это слово уже не дает то бессмертие, которое оно давало, когда поэт был в лучах славы государей. Когда славы нет, оно всегда ускользает, грозя сделать бессмертной, неотвязной до самой смерти манию преследования. Как сказал Лакан, «Если Бога нет, то ничего не позволено».
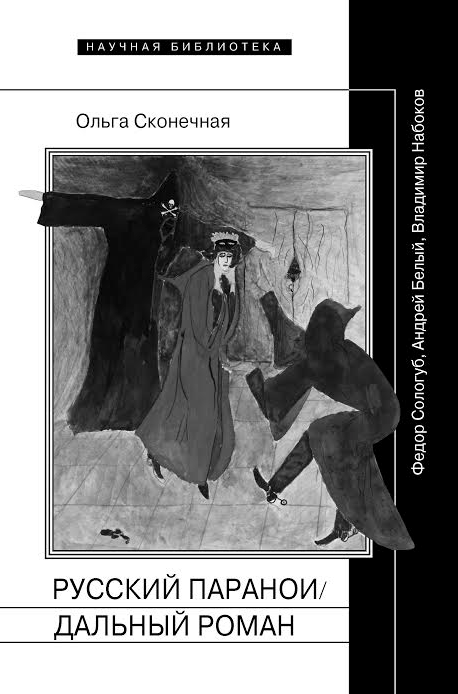
Книга О. Сконечной открывается подробным очерком паранойи Д.П. Шребера — известнейший кейс психиатрии. Шребер мыслил собственные жесты как переписывание текста мира, как умение замарывать и перебеливать сам мир, но мир как бы мстил ему особой мнительностью, мнительностью текста, в котором любая темнота, любая усложненность мысли вроде бы выслеживает параноика. Генеалогия представлений о вызывающем характере неотредактированного текста сразу видна: комплекс советского редактора, требующего убрать все, что ему показалось двусмысленным, находящего экивоки даже там, где смысл фразы совершенно понятен — продолжение Шреберовской фигуры мысли. Паранойя глядит глазами чужого, но этот чужой — твоя же оговорка, твоя же невозможность вовремя поставить точку или вовремя сменить угол зрения: она может называться графоманией, может называться одержимостью, может называться ожиданием, наподобие того, как Передонов ждет письма от графини. Графомания — это не просто увлечение письмом, это прежде всего ожидание от письма, что оно само себя проверит, что оно окажется всегда правильным решением задачи: в этом смысле набоковский Лужин графоман, хотя и ничего толком не может написать — он самими капризными ожиданиями сшивает ткань письма собственной паранойи. Графомания «неприглядна» буквально: она не допускает, чтобы кто-то к
Истоки паранойи в литературе, согласно труду Сконечной, очевидны: философия Шопенгауэра с его слепой и прихотливой волей, философия жизни, выпавшая из истории, наконец, популярные версии мирового заговора: политический параноик всегда убежден, что масоны разлагают Священную историю (раз они предтечи Антихриста), но он столь же убежден, что масоны творят Священную историю (раз они считают себя архитекторами и строителями). В антимасонской мифологии всевидящее око и принимается всерьез: получается, что масоны и присвоили себе религиозные достижения, но и действительно видят весь мир и владеют всем миром. Масонский фартук прямо указывает политическому параноику на строительство мировой политики: как раз только последователи Нилуса убеждены, что строить историю кощунственно, но именно потому что масоны кощунники, они и строят историю. Это отличный пример графомании в уже названном нами смысле: писать плохо недопустимо, но раз само письмо становится плохим, то это плохое уже может перейти границы любого допустимого. Как и набоковский Лужин: недопустимо играть чувствами, но раз эта игра чувств уже разыграла со мной шахматную партию, я смогу выиграть любую из шахматных партий — и Лужин выигрывает. Интереснейшие страницы в книге О. Сконечной посвящены Андрею Белому. Сологубовский Передонов действовал по логике фрейдистских оговорок, только при этом как графоман превращал их в дурные характеристики мира — увидев прямой столб, надо мысленно его искривить, сделать его оговорившимся, оступившимся (Лакан бы сказал «расщепленным»), допустившим грамматическую ошибку по суждению учителя словесности Передонова; увидев пруд, заметить в нем только грязное зеркало, как бы подскользнувшись на нем. Его каламбуры и шутки грубы, а не скандальны. Андрей Белый уже работает не с оговорками, а со своеобразными опечатками, «тиком», механикой речевых смыслов, предвосхищая делёзовский шизоанализ, «злокозненной языковой игрой» (с. 163), когда макаронизм оказывается конвертацией графомании в идеологию: плохо расслышанные слова, вавилонское смешение языков оказывается созданием формул: из-мена мен-тальна, а мания якобы маняща. Андрей Белый выступает как первый русский критик идеологий: позиция идеолога оказывается не позицией политика, а позицией соглядатая, который пытается приглядеться и прислушаться к многоязычному, каламбурящему, обыгрывающему себя слову, как шпион пытается выведать военную тайну. Как военная тайна — это логистическая технология, так соглядатай выслеживает логистику самой нашей психики, «сплетню и скандал» (с. 176) внутри словесного жеста, где вдруг «любовь» звучит «ловлей» (там же). Изгнание соглядатаев и оказывается тогда важнейшей задачей литературы, которая никогда не станет графоманией и не будет воспринята в таком качестве, пока живо человечество.
