Бессознательные самоубийцы (отрывок из Эссе о самоубийстве)
Самоубийство, Публий, не выход,
а слово “выход”, на стенке написанное.
Иосиф Бродский
Когда нас посещает мысль о самоубийстве? Либо перед нами встает как факт чье-то самоубийство, либо мы желаем собственной смерти.

1. В первом случае смерть не является нашим опытом, она остается чужой, даже если мы в своем воображении максимально приблизим себя к ней, пытаясь встать на чужое место. Мы проецируем на себя чужую смерть, вместе с ситуацией смерти; это проецирование неизбежно, поскольку смерть — нечто, что всегда имеет отношение к нам, независимо от того, с кем она случается; она то, к чему почему-то нельзя оставаться безразличным.
Потому, сталкиваясь с чужим самоубийством, мы всегда испытываем безотчетный страх и за самого себя: настоящая Причина смерти кажется таинственной и непостижимой, она не исчерпывается условиями, конкретными причинами смерти, и кто знает, может, мы тоже окажемся однажды под ее влиянием.
Задумываясь о чужом самоубийстве, мы способны задуматься о нем как о виртуально своем, будто мы размышляем перед зеркалом. И все же мы не можем знать здесь до конца; смерть так странно и тесно связана с конкретным своим проявлением, с Личностью, что мы никогда не можем представить не случившуюся с нами смерть как действительно Смерть.
Возникает парадокс. Опыт чужой смерти (не обязательно самоубийства, а смерти вообще) является первым опытом смерти в нашей жизни, в то же время не являясь нашим, настоящим опытом. Мы видим, что люди умирают; но — мы не видим всего, что связано с их смертью, мы не знаем чего-то таинственно главного, что знают они, саму Смерть как нечто совсем другое, чем жизнь, и для нас их смерть — это лишь событие из других событий жизни, хотя и выбивающееся из общего безразличия. “У нас нет опыта смерти…У нас есть опыт смерти других, но это всего лишь суррогат, он поверхностен и не слишком нас убеждает”(А. Камю).
Мы знаем, что люди умирают, но нас это не убеждает. Зато мы думаем, что знаем, как люди живут и что они вообще живут. Хотя, если уж смерть кажется мне “суррогатом”, то почему жизнь остается для меня безусловной и не тронутой сомнением? — Вот вопрос к человеку, который не задумался еще о своей смерти.
2. Во втором случае, когда мы сталкиваемся с желанием собственной смерти, все как будто переворачивается. Мы непонятным образом убеждены в реальности Смерти, чувствуя, как она затягивает нас. Это уже переживание своей смерти, тесно связанной с
Если между смертью и жизнью я выбираю смерть, то в данный момент я считаю ее более настоящей, чем жизнь, а значит, имеющей большую силу, чем жизнь.
И тогда уже жизнь других людей теряет для меня безусловность, она представляется мне суррогатом чего-то настоящего, такого настоящего, которого я не могу найти в жизни, — может быть, найду в смерти?
Тем, что я перестаю верить в жизнь, в ее безусловность, я, как столкнувшийся с мыслью о собственном самоубийстве, тем самым лишаю себя возможности “примерить” чужую ситуацию, как это возможно было в первом случае; я не могу выйти из ситуации переживания собственной смерти, в ней есть какая-то такая сила безусловности для меня, для моего существования, что эта сила огораживает меня от остального и замыкает ситуацию переживания в самой себе. В самом деле, если люди с их жизнью кажутся мне неубедительными, нереальными, зачем мне ставить себя на их место? Я — человек, они — призраки, ненастоящие. Суррогаты.
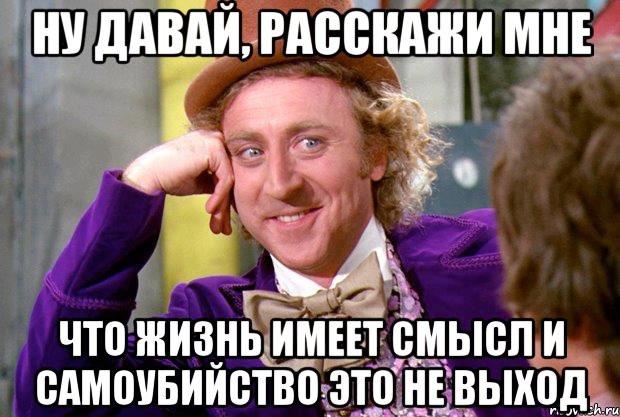
Обратим внимание: близость мысли к смерти как-то сама собой убеждает размышляющего в собственной “настоящести”, безусловной реальности. Смерть связана с личностью безусловно и потому непостижимо.
Но есть еще вариант. Имея опыт мысли о чужой смерти, уже легче преодолеть замкнутость собственной, размышляя “перед зеркалом”. Однако и здесь последствия раздваиваются: одним такое “мышление на расстоянии” помогает преодолеть самоубийство творчески, подняться над желанием уничтожить себя; для других это дистанцирование оказывается лишь утонченным способом превратить “действо” в документальный фильм о собственном самоубийстве, превосходно отработанный во всех деталях и оставленный для потомков в виде некоего посмертно вскрываемого послания.
Это загадка. Но что именно загадочно, кто именно: те, кто сумел подняться над самоубийством, или те, кто “поднял” самоубийство до поступка?
На самом деле, загадочными оказываются третьи: те, кто испугался собственной мысли и забыл ее, замуровал в темнице своей души, или просто проглядел ее намек в своих снах или мелькающих дневных образах. А потом, сидя у раскрытого окна, случайно — о, ну конечно, совершенно случайно — вываливается из него, или, не задумываясь, спускает курок случайно заряженного пистолета, и случайно падает с моста и попадает под поезд.
Они так никогда и не заметили, что отвернувшись от мысли о смерти, тем самым вернее и быстрее приговорили себя к ней.
Отказывающийся подумать о самоубийстве, о своей смерти, отказывается от осознания себя и от той жизни, которая могла бы измениться после этого, отказывается меняться, и — этим совершает самоубийство.
Поэтому есть осознанные не-самоубийцы, осознанные самоубийцы и неосознанные самоубийцы. Последние, как ни странно, представляют собой довольно многочисленную категорию, формы самоубийства которой не стандартны настолько, что редко выглядят именно как самоубийство, а не естественная смерть или несчастный случай. Народная интуиция по этому поводу говорит, что “любая смерть — это не случайно”: человек может так построить, а точнее, планомерно разрушать свою жизнь, что она приведет-таки его к преждевременному концу, — даже если смерть будет выглядеть вполне естественно.
Но это всегда финал раньше времени, оставляющий многое неразрешенным и недосказанным. Самоубийство — это преждевременная смерть.
