Гинтаутас Мажейкис. Манихеизм Чеслава Милоша в контексте исследований морального воображения
Развернутая статья литовского философа о концепции зла, критике господствующей рациональности и возвращении к сакральным истокам воображения в книге польского поэта Чеслава Милоша «Земля Ульро», вышедшей в издательстве Ивана Лимбаха в 2018 году.

Теория морального воображения и морального равновесия
История и теория морального воображения исследуют развитие духовности в художественной литературе, в кино и театре, в политике и философии. Теория морального воображения основывается на
Манихейское моральное воображение имеет в виду постоянное и сущностное присутствие зла в человеческом мире и критикует те религиозные теории, которые говорят, что зло есть недостаточность добра и не имеет собственной сути и существования. Критика критики манихейства указывает на то, что отрицание автономной активности зла способствует унижению и эксплуатации человека, скрывает истоки расизма, тоталитаризма, геноцида и Холокоста. Отрицание автономности зла означает возвышение добра как единолично господствующего, не допускающего никакой теории морального равновесия. Можно согласиться с К. Поппером, который нашел в платоновской теории господствующего добра истоки авторитарного и даже тоталитарного господства [2]. Аристотелевская теория золотой моральной середины ближе принципу морального равновесия и основывается на гегемонии рациональности. Наоборот, моральная теория Уильяма Блейка и отчасти следующего ему Милоша предусматривают различные констелляции моральных равновесий, основанных на исторических типах морального воображаемого. Но для этого было нужно, чтобы историческое видение зла, само понятие зла, приобрело развитое субъективное содержание. Это случилось в поэзии Данте, Джона Милтона, Байрона, Гете, Мицкевича.
Отрицание самостоятельности зла символизирует отсутствие развитой теории зла. Понятие зла не получило своего развития и сравнимого с добром содержания ни в работах Платона или Плотина, ни в сочинениях стоиков или апостола Павла. Только в сочинениях гностиков и манихеев злу уделяется достаточное, но несколько наивное внимание: оно отождествляется с природой, с материальным миром, который должен быть преодолен. Речь идет не о
Искусство и философия любви (ars amore) в период позднего Средневековья и особенно Ренессанса развивали идеи демонического, и следовательно, магического, оккультного зла независимо от воображения богомилов, оказавших влияние на альбигойцев (катаров). Философии любви удалось, начиная с Готфрида Страсбургского (около 1165–1215) и поэтов «Дольче стиль нуово» (Dolce stil nuovo), возродить поэтическое воображение великого зла и дискуссии о нем. И если Сатана умер как творец мира, он возродился как властитель чувств и литературного морального воображаемого. В последующем эти тенденции были развиты в поэзии Данте, Мильтона, Байрона, Гете. Именно в их сочинениях зло приобрело достаточную и развитую волю, субъективность, свободу, научность, революционность. Именно их поэзия и подготовила теорию морального равновесия Блейка.
Итак, с точки зрения истории морального воображения и истории идей важно выделить: a)манихеизм раннего Средневековья, анализом и критикой которого занимаются историки религии. Христианство, преодолев противопоставление материального и небесного в сочинениях гностиков и манихеев, оправдав земную телесность Исуса Христа, не развило теорию равновесия телесного и мысленного; b) манихеизм позднего Средневековья и Ренессанса, когда манихеизм был связан с поэзией и философией любви, оккультизмом и инквизицией (подозрения в связях с суккубами и инкубами, обвинения в полетах на празднования с Сатаной), в рамках которых зло приобрело собственное моральное воображаемое и демоническую свободу; c) манихеизм барокко и особенно романтизма, когда великое зло изображалось драматически, противоречиво и даже диалектически. Зло было соотнесено со светской свободой, индивидуализмом и революцией. Романтический образ великого и умного зла или, может быть, восставшей души индивидуалиста был представлен в сочинениях Байрона, Блейка и Адама Мицкевича, а также в рассуждениях Гегеля о красоте и диалектике зла; d) манихейство XX века как символические конструкции и конфигурации мышления и поведения, что отражено в сочинениях Михаила Булгакова, Симоны Вейль и Чеслава Милоша. Причем их манихеизм не похож и даже противоречит друг другу. Например, манихеизм М. Булгакова в романе «Мастер и Маргарита». Место и способности зла, Воланда, вероятно, были заимствованы Булгаковым из сочинений философа XVIII века Речи Посполитой Григория Сковороды. Сковорода различает три мира: a) макрокосм Вселенной, или природы, откуда и происходит зло (аналог телесности как прибежища зла). У Булгакова Воланд исчисляет судьбу людей по соотнесению планет и повседневности; b) микрокосм — это внутренний человеческий мир вне божественности или до божественности. Это собственно воля и разум человека, которые в состоянии противостоять субъективному и индивидуальному злу; c) мир Логоса, или символический мир, в котором присутствует Христос. Это диалог Христа и Понтия Пилата в романе Булгакова [4]. Но, в отличие от Сковороды, Булгаков развивает внутреннее содержание образов Зла и придает им смеховой карнавальный характер, черты трикстера. Тем не менее идея равновесия моральных сил в его сочинениях не получает развития. Это свойственно и позднейшей советской литературе, которая была в состоянии представить привлекательного преступника (Остап Бендер у Ильфа и Петрова), но настаивала на историческом (диалектическом) материализме, что предвещало преодоление преступности и зла, но не равновесие морального воображаемого (любви и несмиренности…); d) структурное или дискурсивное понимание зла как социальной договоренности, как творения искусства и паблик рилейшнз.
Также интересно рассмотреть критику и анализ идей манихеизма. И тут снова отсылаю к сочинениям Каволиса, Донскиса, Милоша. Милош выступает двояко: и как поэт, и как историк и критик идей. Донскис возрождение манихеизма связывает с реакцией на тоталитарные и радикально авторитарные, фундаменталистские режимы, т. е. мыслит в рамках свойственной ему критике утопий и дистопий XX века. Однако он не видит в категории зла никакого онтологического или бытийного смысла, возможно, потому, что он классической онтологией вообще не занимается. Ему скорее интересна история идеи:
Поразительная черта воззрений Чеслава Милоша заключается в его концепции зла, которая производит впечатление совершенно манихейской: подобно Михаилу Булгакову и Симоне Вейль, Милош никогда не признавал до конца христианские августиновские или современные либеральные идеи зла, полагая, что зло живет своей жизнью и открывает параллельную реальность. Фактически современная форма манихейства, в которой признался Милош, вне зависимости от того, считать ли ее восточно- и центральноевропейской идиосинкразией или глубоко трагическим и неизбежным аспектом тоталитарной модернизации той части Европы, требует отдельного и тщательного исследования[5].
К разбуженному тоталитаризмом манихейству Донскис причисляет Милоша, Дж. Оруэлла, Булгакова, Симону Вейль, однако не следует ни истокам, ни воображаемому Милоша.
Манихеизм Милоша
Манихейские размышления Уильяма Блейка об Уризене вдохновили Милоша написать «Землю Ульро». И Блейк, и Милош критикуют авторитаризм, деспотию, оба отрицают механистическое и материалистическое представление о Вселенной, поддерживают идеи независимого индивидуализма, освобождение через сообщества воображения и потому иногда прибегают к романтической метафоре «демонической свободы». Свободе Блейка и Милоша суждено подняться из состояния упадка на Земле Ульро, где господствуют разум, детерминизм и мука, и открыть возможности литературного и шире — эстетического воображения и его осуществления в
Милош следует четырехступенчатой теории равновесия Блейка, что похоже на негативную диалектику и эстетику Теодора Адорно, но и отличается от нее. Адорно, говоря о соревнующихся равновесиях, о их множественности, не прибегает к символизму четырех начал, а вместо гармонии равновесий говорит о констелляции сил [6]. Сравнение этих двух авторов, внимательных к творческому воображению как началу освобождения человека, может быть очень полезным. Оба говорят об индивидуальном восстании, великом «отъединении» (odłączenie) как исполнении бытия. Милош пишет в «Богословском трактате»:
Даже если б в
Милош следует и романтической традиции, начиная от Мильтона, Байрона и до Блейка, которая представляет Люцифера как вестника мятежной воли и свободы. Милош, интерпретируя Блейка, пишет:
Бунт ангелов как космическая катастрофа — основная тема «Потерянного рая» Мильтона. Поэтически зависимый от него Уильям Блейк «исправляет» Мильтона, утверждая, что Сатана прав, ибо восстает против ложного Бога, автократического Иеговы [8] .
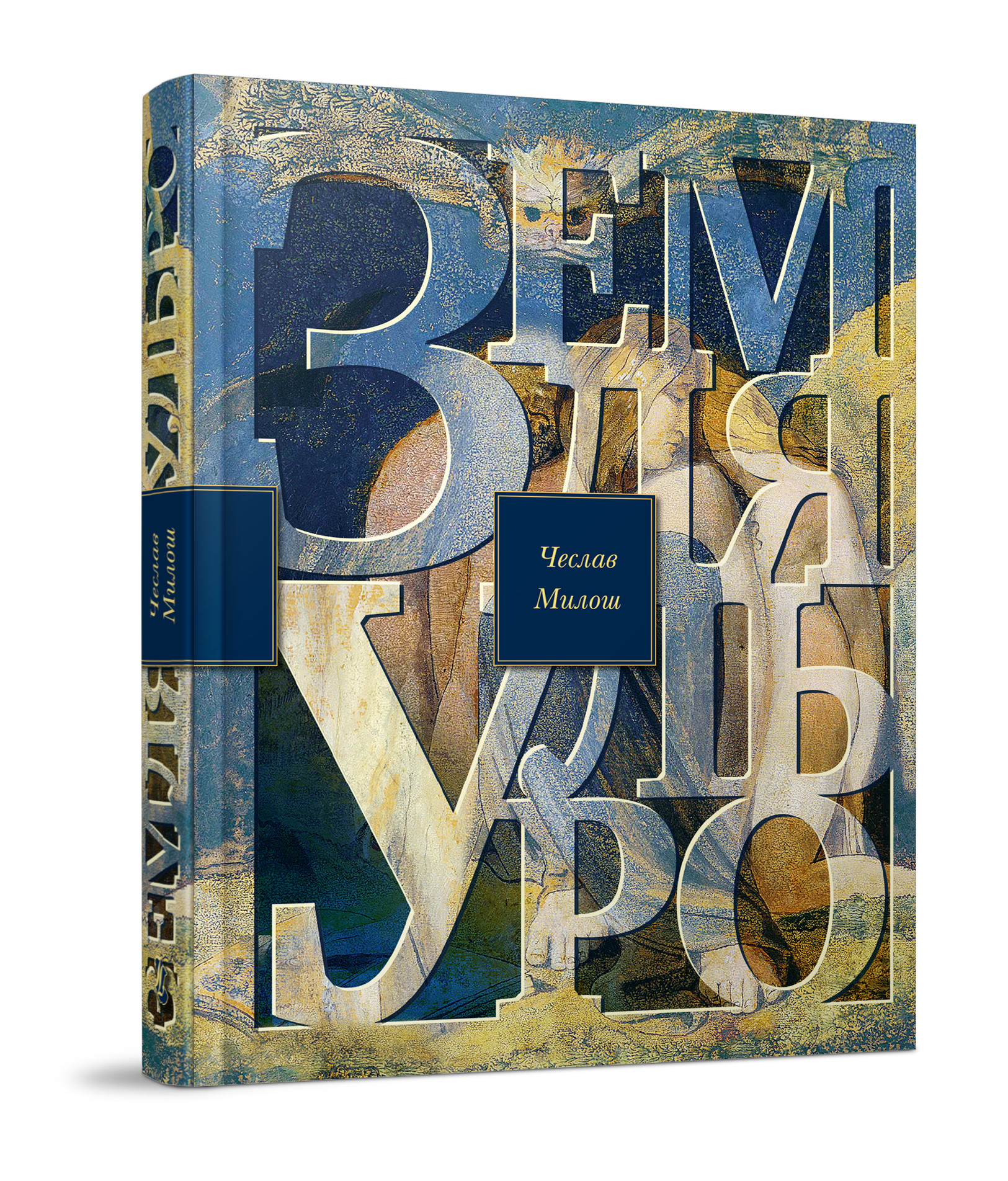
Милош не возвышает образ Люцифера, но старается понять тех, кто это делает. Поэт выбирает путь негативной теологии и негативной диалектики (позитивную гегелевскую, и особенно марксистскую он критиковал и отрицал). Диалектический путь негативной теологии свойствен и Якобу Бёме, которому Милош симпатизировал. Восстает не Люцифер Байрона, не Мефистофель Гёте, не Воланд Булгакова, а мятежная душа поэта — аналог демона. Именно душа поэта-индивидуалиста отвергает и творимый людьми ад, в который нацисты и большевики посылали праведников, и новый идеологический пьедестал, новую идеологическую вечность, и конструируемую Великую правду. Милош предлагает другой путь: объясняя поэтических демонов и позитивную хитрость кетмана (из книги «Порабощенный разум»), он стремится раскрыть, реализовать суть поэтического восстания и объяснить, почему это восстание не следует ни коммунистической, ни националистической дорогой.
Милош поэтически и критически, а не в религиозном плане открыт мистике и теософии; он воспринимает Землю Ульро как определенное состояние действительности, наподобие образов первого круга ада в сочинениях А. Солженицына или братьев Стругацких. Состояние упадка он объясняет не мистически, а защищая важность литературного воображения, следуя за Якобом Бёме, Эммануилом Сведенборгом, Блейком и Мицкевичем, а также полемизируя с ними. Милош спорит не об эзотерике или оккультизме. Он защищает онтологическое и бытийное первенство воображения в сравнении с выверенными, рациональными указаниями Уризенана Земле Ульро.
Для Милоша Земля Ульро — это онтологическое состояние мышления, то есть это больше чем литературная метафора, но и не мистическое видение; Земля Ульро — внутреннее, экзистенциальное и вместе с тем литературное воображаемое, это наш хрупкий, непрестанно обновляемый лад (kruchym i bezustanku odnawianym ładem), часть мира равновесий, а не зло как таковое. А для Донскиса Земля Ульро — это скорее экзегетическая, или герменевтическая интерпретация образа, его история, без доверия к тому, что этим образом сказывается. Для Милоша Земля Ульро — экзистенциальное, онтологическое событие, а для Донскиса — символическая организация литературного воображения. Именно литературной интерпретацией идеи, но не онтологией морального он объясняет Воланда в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Донскис говорит о «символических организациях» и их «траекториях», о литературных сочинениях и кино, которые лучше всего раскрывают существующие формации зла, но не являются онтологией зла [9] . Таким образом, он остается антропоцентричен и секулярен даже больше, чем Вольтер, которому он симпатизировал. Милоша и Донскиса отличает вера в литературное бытие, для Милоша бытие есть сама поэзия, а для Донскиса — интерпретация и коммуникация по поводу поэзии. Но оба занимаются своим делом.
Милош не является гуманистом в современном идеологическом смысле, хотя таких интерпретаций найдется много. Ведь любая знаменитость по приказу современности причисляется к гуманистам, миролюбам и духовным отцам. Однако Милош своеобразно верит в духовное, т. е. художественное возвышение человеческой анти-Природы:
Обратился я к
Анти-природа связана у него с духовной иерархией. Поэт верит в гностическое иерархическое становление человека. Все мы шествуем по небесным ступеням становления духа, поэтому равенство — это скорее тоталитарное измышление. Разумное животное, или человек масс, еще должно исполниться как духовное существо: искусством, литературой, философией, моральными суждениями и поступками. Человеческую природу раскрывает духовность, а не природное и не техническое становление. Техническая модернизация является лишь вспомогательным средством, не более. Везде, где мы сталкиваемся с делами сердца, «равенство — это фикция, а неравенство — всеобщий закон»[11] . Это является парадоксом, ибо неравенство — не только признак эксплуатации и насилия, но и возможность для разнообразия и духовного роста.
Автор «Земли Ульро» не навязывает нам своих выводов о Данте, Сведенборге и Блейке. Незаконченное утверждение — это его установка. Мы не боги и не вершим последнего суда. Поэтому мы не можем утверждать, что он разделяет или отрицает Мицкевича (зачинатель Анджей Товянский [12], родом из Ковенской губернии), что наши души не могут совершенствоваться, подымаясь по ступеням небесной иерархии, пока не закончат своих дел в земном или ближайшем мире духов, и что Польша есть новый избранный народ в изгнании. Согласно Товянскому, Мицкевичу и другим участникам «Круга Божественных Дел» (Koło Sprawy Bożej), свершение жизненных дел может осуществиться во взаимодействии духов и живых:
В основе «Дзядов» лежит общение живых и мертвых, или заступничество. Мертвые просят помощи у живых (обряд Дзядов), живые спасают живых молитвой (Ева, Ксендз Петр), мертвые защищают живых («Вспомни мать! Пока жила — / Хрупкий век твой берегла.[13]
Милош интерпретирует это как художественное, эстетическое взаимодействие с историческими деятелями наподобие того, как он сотрудничает с Оскаром Милошем (Oscar Milosz) и Мицкевичем. А выражение этого сотрудничества может быть фантастичным. Например, герои «Божественной комедии» разговаривают с осужденными на вечные муки в Аду еретиками и грешниками — о судьбе политиков. Милош считал сильное художественное или мистическое изображение элементом действительности. Сильные творцы и образы живут и после смерти их тел. Они проникают по ту сторону языковой действительности в сферу морального, политического и иного воображаемого и соперничают с живыми. Милош говорит: «Блейк относился к раю и аду Сведенборга точно так же, как к раю и аду Данте, то есть считал, что они реальны, п о т о м у ч т о воображены» [14] (Jako realne dlatego, že wyobražone). Внутреннее пространство — это та область искусства, где человек растет поэтически, эстетически, а природа, техника и человек как психофизиологическое существо являются выражениями упадка и принадлежат стихии зла. Милош подробно обсуждает видения Сведенборга и не полемизирует с ними, а интерпретирует: «Человеческая воля полностью свободна, но человек безусловно зол [bezwzglednie zly] и сам по себе может творить лишь зло, и сам из себя может производить зло» (sam siebie može czynic tylko zlo).[15]

Что подтолкнуло Милоша к манихейской интерпретации мира? Ссылки на Мицкевича, Сведенборга, Блейка годятся скорее для академических сносок, но не объясняют экзистенциальный опыт. Важно, что эти авторы находятся в основании литературной онтологии Милоша, это его товарищество морального воображения. Совместное воображение и символизм (символическую организацию и ее моральную культуру) поэт использовал, чтобы понять непонимаемый и невыразимый ужас Второй мировой войны. Война коснулась Милоша жестко, драматически и нанесла удар по его поэтическому мироощущению. Он стал свидетелем разрушения миров (1939); двух отважных, героических и гибельных варшавских восстаний: в 1943-м (в варшавском гетто) и в 1944 году. Эти две трагедии были дополнены испытаниями изгнания, рядоположенностью его судьбе нацистских концентрационных лагерей, советского Гулага, о которых он постоянно слышал, но мог лишь воображать; опыта массового предательства — свои предавали своих: нацистам, коммунистам, за выживание, за деньги, за блага, за карьеру. Духовный поворот созревал несколько лет, и это отчасти выражено в «Легендах современности» (Legendy nowoczesności) написанных в 1942–1943 гг. [16] , передающих ощущение конца всего бывшего мира. Но действительная драма ужаса и выбора сложилась, когда он стал очевидцем двух великих восстаний и двух предательств, поразивших его поэтическое мироощущение и воображение. Восстание в гетто, уничтожение евреев было, по свидетельству Милоша, слабо поддержано поляками, они предпочли остаться в стороне от еврейского мужества умереть в борьбе. То же самое с Варшавским восстанием, которое было зажжено идеей освобождения, но не иначе как национального, возможно, недостаточно обдуманного, и подавлено нацистами при холодном предательстве советских войск, включавших и польскую армию — Армию Людовы (Войско польское), которые находились по ту сторону Вислы. Все это потрясло поэта. В сочинении «Мир. Наивная поэма» (Świat. Poema naiwne), написанном в 1943 году, ужасы войны, запечатленные в знаменитых стихах «Кампо ди Фьори» (Campo di Fiori), замещаются манихейскими мотивами и видениями светлого выхода. Это и есть начало сознательного осмысления исхода из Земли Ульро, как
Манихеизм Милоша тесно связан с его критикой господствующей рациональности. В двух сочинениях Милоша, в «Порабощенном разуме» и в его, в некотором смысле, продолжении — «Земле Ульро» — обнаруживается критика этой репрессивной рациональности. Его воображение Зла основывается на четырех, но, возможно, и больше, метафорах: 1) таблетках Мурти-Бинга (Murti-Bing) из сочинения Станислава Игнацы Виткевича «Ненасытимость» (Nienasycenie); 2) идее кетмана, заимствованной из социологии Ж. А. де Гобино (Gobineau); 3) образе Великого инквизитора из «Братьев Карамазовых» Достоевского и, наконец, 4) идее Ульро, взятой из сочинений Уильяма Блейка. Первые две метафоры раскрыты в сочинении Милоша «Порабощенный разум» [17] , другие две — в книге «Земля Ульрo». Об идеях «Порабощенного разума» написано очень много. В Литве эти метафоры широко интерпретировались в сочинениях Л. Донскиса. Меньше внимания уделено влиянию Достоевского и Уильяма Блейка на воображение Милоша. Достоевский помогает Милошу объяснить его поэтический и религиозный выбор вне дискурса рациональности просвещения, реабилитировать свое радикальное экзистенциальное решение. Милош говорит:
…сегодня мы не можем считать религиозную мысль Достоевского лишь ценным экспонатом. Ее осовременивают опасные последствия антиномии, которая обозначилась между наукой и миром ценностей. Вскрылись метафизические предпосылки многого из того, что во времена Достоевского считалось объективной научной истиной, и, похоже, наша цивилизация стоит перед выбором не между верой и разумом, но между двумя комплексами ценностей, явных или скрытых.[18]
Достоевский помог Милошу обосновать собственный экзистенциальный выбор ценностей. Данный выбор включал в первую очередь поэзию, философию и мистику Мицкевича и Оскара Милоша. Другие, такие как Сведенборг, Блейк или Товянский были скорее контекстом, без которого его исторический выбор, его интуиция и братство с Мицкевичем и Оскаром Милошем были бы непонятны. Причем данный выбор Милош сделал, возможно, еще до внимательного чтения Достоевского. Достоевский служит скорее для объяснения выбора поэта, который, возможно, был сделан между 1943 и 1944 годами, между восстанием в гетто и польским восстанием в Варшаве.
Современные теории морального воображения рассматривают зло с точки зрения манихейства не потому, что проповедует какие-то мистические сказания о дьяволе, о Люцифере или Мефистофеле, но говорят о тех мыслительных практиках, той рациональности и коммуникации, которыми представлена наша общественная сознательная жизнь и в которых воспроизводится зло. Это означает, что современный манихеизм может найти свое выражение в литературе, театре и кино и в других искусствах, изучая которые мы можем понять современное состояние зла.
Эрос на Земле Ульро
Свободное поэтическое воображение и независимая от детерминизма эмоциональность невозможны без глубокого ощущения любви. Это один из основных экзистенциалов, который постоянно оппонирует инструментализму и рационализму, просвещению Земли Ульро. Поэтому очень важно то, почему Милош отказывается от психоаналитических, в первую очередь, фрейдистских концепций любви. Зигмунд Фрейд раскрыл детерминизм сексуальности и подсознательного, тем самым превращая эмоциональность в еще один механизм Ульро. Наоборот, Милош пытается возродить эротическую спонтанность в духе Марселя Пруста. Речь идет не о механизмах подсознательного, но о
Я был шестилетним ребенком, когда мама купила мне на рынке (в нашем польском языке слово «базар» отсутствовало) деревянную белку. Это было в городе Тарту,который тогда назывался Дерпт. Зверек (или, скорее, его плоское изображение) был выпилен из фанеры и покрашен в
Рождение Эроса не имеет ничего общего с психоаналитическими теориями и описывает трогательную детскую спонтанность, которой придается космическое значение. Эрос поэтического пронизывает и «Долину Иссы» Милоша, и ритуалы «Дзядов» Мицкевича. Это радужная, светлая эмоциональность, без которой поэтические образы не в состоянии преодолеть тягу Земли Ульро. Именно романтический Эрос и пульсирование живого творчества позволяют защищать поэтические картины мира от наступления научных представлений. Примером принципиальной поэтической независимости от научной картины мира является следующий пассаж:
Мы — пульсирование крови, ритм, организм, преобразующий схемы внешнего пространства в пространство внутреннее, и в этом смысле Блейк и О. В. М. совершенно правы. Когда между нашей внутренней, хрупкой, непрестанно обновляющейся гармонией и требованиями Ульро происходит конфликт, мы не должны колебаться — вот что имел в виду Блейк, когда писал, что земля плоская, а вращающиеся в пустоте шары — лишь наваждение Ульро .[20]
Защита и развитие пульсирующей поэтической грёзы и
Вечно возвращающееся начало
Поэзию Милоша можно охарактеризовать как вечное возвращение к сакральным истокам воображения, которые начинаются видениями Сведенборга и мистикой Мицкевича. Весь этот светлый путь к потаенной сути можно считать теургией Милоша с последующим превращением в ритуал. Это поэтический исход из «земли египетской» в живое поэтическое пространство, которое описано без романтического пафоса, свойственного Мицкевичу. Послевоенная ситуация и миграция углубили выбор Милоша. Именно тогда и припомнилось ему сокровище эмоционального воображения, оставленное в довоенное время в долине Иссы. Милош очень внимателен к теме возвращения к сокровенной тайне души. Возвращение для него — вместе с тем исход. Поэт стремится к восстановлению высших противоположностей, а не к снятию их, как в философии Гегеля (Aufheben). Именно противоположности зажигают любовь. Милош пишет:
Сексуальная свобода была революционным лозунгом, связанным с философией возвращения к «естественному человеку», и пылкость, с которой Блейк защищал ее, несколько удивляет у поэта Падения. На этом примере хорошо видны его поиски единства противоположностей — такого, чтобы противоположности не исчезли <…>, но были перенесены в высшее измерение. То есть речь идет не о той «естественности»,которая есть, а о преображенной — вспомним «ангельскую сексуальность» Сведенборга [21].
Помня анти-природность поэтического и морального воображения Милоша, его иерархические установки, можно утверждать, что возвращение означает становление иным: природного — ангельским (превращение телесной любви в ангельскую — традиция, которая начинается с Данте); превращение Шетеняй Ковенской губернии в долину Иссы. Мне кажется интересным и плодотворным сравнение вечного возвращения Милоша и идей Жана Гебсера (Jean Gebser, 1905–1973). Гебсер — философ культуры середины ХХ века, чья интеллектуальная биография не перекрещивается с Милошем, но скитания и время их жизни, некоторые идеи и внимание к мистицизму схожи.
Гебсер родился в немецкой Познани и покинул ее в 1929-м
Гебсер различает архаическую, магическую, мифическую, ментальную и интегральную структуры сознания. Ментальная структура подразумевает рациональность, планирование, технику, инструментальность, развитие технологий, но отодвигает в сторону, преуменьшает или вовсе репрессирует эмоциональное воображение и архаическую и магическую структуры, искажает мифологическое миропонимание, превращает ее в рациональный инструмент мобилизации.
Исторический прогресс Европы во многом был основан на постоянной репрессии по отношению к старым традициям мышления и установлению новых дисциплин на основании математического естествознания. Дисциплина означает и обязательный предмет обучения, и метод, и наказание. Именно с ее помощью из сферы самообразования были изъята мистическая традиция, включая не только Бёме, Сведенборга, Блейка, но и Оскара Милоша и Чеслава Милоша с его «Землей Ульро». Режимы модернизации XVIII–XX веков постоянно изобретали и новые формы дисциплины — предмета, метода и наказания или школы, казармы, клиники и тюрьмы. Только в конце XX столетия мы видим изменение режима дисциплины на более свободный режим микро-контроля. Но суть осталась похожей, и критически осмысляемый манихеизм остался по ту сторону человеко-образования. Результатом становления дисциплинарной рациональности Гебсер считает появление специфической репрессивной ментальности, которая разрушает интуитивное и воображаемое мышление и его опыт. Радикальное ограничение значения эмоциональности и воображения, превращение тела в объект власти приводит человечество ко все более разрушительным последствиям такой политики. Гебсер не одинок в своей критике репрессивного просвещения. Философы Теодор Адорно, Мишель Фуко, Ролан Барт и другие пришли к похожим выводам. Но важна не только критика, но и предложения о вечно присутствующем у своего начала мышлении, или о вечно исходящей практике поэтического мироощущения и сохранения морального равновесия. Гебсер предлагает развивать интегральное сознание, которое, кроме прочего, включает переосмысление прежних мистических традиций и включение их, на новом основании, в современное знание, в современный опыт воображения и эмоциональности, т.е. в интегральную структуру сознания.
Милош пишет в похожее время на подобные темы, не зная идей Гебсера и не дискутируя с социальной критикой Франкфуртской школы. Его интерпретация Земли Ульро вполне соответствует критике и репрессивной рациональности, и дисциплинарного просвещения. Он, подобно Гебсеру, предлагает, объясняет и создает альтернативу, представляет историю другого опыта, которому придает индивидуальное значение, эмоциональность и видит в нем источник воображаемого. Его поэтическое мышление ограничивает, но не уничтожает репрессивное рациональное просвещение; включает интуитивный и мистический опыт и развивает новое поэтическое пространство воображения.
Примечания
1.Kavolis V. Moralizing Cultures. Lanham, MD: University Press of America, 1993; Donskis L. The end of ideology & utopia? Moral imagination and cultural criticism in the twentieth century. New York: Peter Lang, 2000; Donskis L. Vytautas Kavolis: Civilizational Analysis as a Social and Cultural Criticism // Comparative Civilizations Review: Vol. 38. № 38. Spring 1998. P. 38–70.
2. Поппер К. Открытое общество и его враги: В 2 т. М.: Культурная инициатива; Феникс, 1992.
3. Англ. Urizen — авторитарный, тоталитарный Бог-Дьявол в мифопоэтике У. Блейка.
4. Панков А.Манихейство и смех в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» http://doxa.onu.edu.ua/Doxa7/162-169. pdf (дата обращения 20.01.2019).
5. Bauman Z., Donskis L. Takusis blogis. Vilnius: Versus aureus. 2017. P. 12. Пер. А. Самариной.
6. Адорно Т.В. Негативная диалектика. М.: Научный мир, 2003. С. 99.
7. Милош Ч. Богословский трактат / Пер. Н. Горбаневской // Горбаневская Н. Мой Милош. М.: Новое издательство. 2012. С. 93.
8. Милош Ч. Земля Ульро / Пер. с польск. Н. Кузнецова. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2018. С. 357.
9. Donskis L. Forms of Hatred: The Troubled Imagination in Modern Philosophy and Literature. Amsterdam: Rodopi, 2003.
10. Милош Ч. Богословский трактат. С. 90.
11. Милош Ч. Земля Ульро. С. 169.
12. Анджей Товяньский (1799 –1878, по другим сведениям 1879) — польский религиозный философ-мистик, визионер, пророк, мессианист.
13. Милош Ч. Земля Ульро. С. 222.
14. Милош Ч. Земля Ульро. С. 253.
15. Милош Ч. Земля Ульро. С. 259.
16. Милош Ч. Легенды современности: оккупационные эссе. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2016.
17. Милош Ч. Порабощенный разум / Пер. В. Британишского. СПб.: Алетейя, 2003.
18. Милош Ч. Земля Ульро. С. 121.
19. Милош Ч. Земля Ульро. С. 79.
20. Милош Ч. Земля Ульро. С. 402.
21. Милош Ч. Земля Ульро. С. 292.
22. Gebser J. Ursprung und Gegenwart. Zürich: Chronos Verlag, 2015; перевод на английский: Gebser J. The Ever-Present Origin / Authorized translation by Noel K. Barstadt with Algis Mickunas. Athens / Ohio, London: University Press 1985. В русских и польских текстах чаще всего ссылаются на английское название «Вечно присутствующее начало», а не на немецкое «Проихождение и присутствие» (Ursprung und Gegenwart).
