Отрывок из романа Рейнальдо Аренаса «Чарующий мир»
«Чарующий мир» (1965) — роман, принесший славу и поругание самому странному кубинскому писателю второй половины ХХ века Рейнальдо Аренасу (1943–1990). Это воображаемая автобиография, в которой автор — бунтарь, вечно противостоящий власти, скептик, беглец — является частью своего героя. Рукопись не была допущена к печати цензурой, и ее нелегально вывезли с Кубы друзья Аренаса. В 1968 году вышел в свет французский перевод, годом позже в Мексике роман был опубликован по-испански. На русский язык роман переведен впервые. Автор перевода — Дарья Синицына.
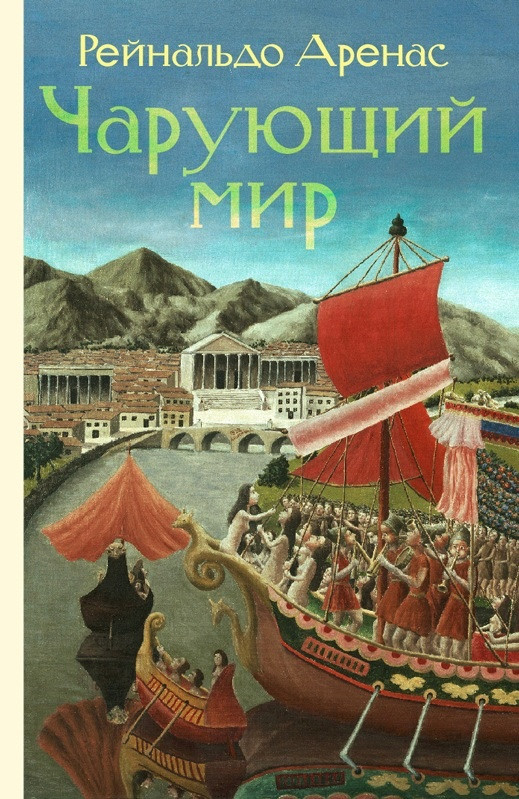
Брат Сервандо, неугомонная жертва
Уже много лет брат Сервандо скрывается от испанской инквизиции по всей Европе, испытывая непременные унижения и превратности изгнания, и вот однажды на закате, в Италии, в Ботаническом саду он сталкивается нос к носу с предметом своей абсолютной безутешности: мексиканской агавой (она же магей), посаженной в миниатюрную клетку и снабженной некоей поясняющей табличкой.
Долго же пришлось мыкаться монаху, чтобы наконец прийти к тому, чтó его определяет и выражает: крохотное растеньице, вырванное с корнем и перенесенное на чужую землю под чужим небом. Почти мифическое небо американца, непрерывной жертвы всех времен, латающего невозможное, также присутствует при этой краткой, молниеносной встрече души и пейзажа, одиночества и утраченного образа, пресного чувства неуверенности и пустоты — и другого чувства, воспоминания, которое врывается и покрывает, притягивает как магнитом, превращает в идеал то, что некогда (когда находилось в нашем распоряжении) было всего лишь общим местом, ныне обретающим ценность в силу невозможности обращения.
Не успев еще свести личное знакомство (История вообще не берется «утверждать», что они когда-либо были знакомы), брат Сервандо Тереса де Мьер и Хосе Мария Эредиа примерно в одно время, вероятно, испытали одинаковые ощущения, одинаковую опустошенность, хотя и в различных ландшафтах. Эредиа, как порядочного романтика, рок ведет к Ниагарскому водопаду, где его потрясает не столько величие пейзажа, сколько воспоминание о далекой пальмовой роще. Брата Сервандо, человека на удивление разностороннего, наивного плута, восторженного авантюриста, это душераздирающее присутствие неосуществимого (родины) настигает в самом центре одного из самых многолюдных европейских городов, в вихре безымянных лиц и в шуме бесчисленных идей, как правило, противоречивых… Возвращение, то есть обретение пальмы или агавы, станет для обоих многотрудным и маловероятным, но в конце концов возможным — и приведет к концу.
Бессмысленно было бы излагать здесь, в своего рода вступлении к роману, который я написал много лет назад и теперь уже почти не помню, перипетии брата Сервандо и Эредиа и причины таковых. Я, однако, думаю о том мгновении — не отмеченном, как большинство важных мгновений, «официальной» историей, — когда поэт и авантюрист встречаются в Мексике, пережив тысячу и одну низость и прозревая в будущем множество низостей, что еще предстоит пережить… Обоим удалось вновь взглянуть на любимые пейзажи, но что же они в самом деле увидели? Что они могут сказать друг другу? Человек, пешком прошедший всю Европу и переживший немало невероятных приключений, вызванный во все суды, неутомимая жертва, неоднократно чудом избегавший сожжения на костре, завсегдатай самых страшных темниц Европы и Америки (Сан-Хуан-де-Улуа, Ла-Кабанья, Лос-Торибиос и так далее), мятежный патриот и политик, борец — в это мгновение он совсем не тот, кто может направить в нужное русло и в нужном ритме историю своей страны, да что там — даже своей провинции, да что там — даже свою собственную. Что касается Эредиа, прозванного соотечественниками «падшим ангелом» за то, что вернулся на Кубу, к своим пейзажам, с охранной грамотой за подписью генерала Такона, то он, совершенно очевидно, также не являет собой примера постоянства и духовного удовлетворения. Тот факт, что эти двое живут в одном месте (в президентском дворце), что история свела их там в схожих обстоятельствах и при этом не сохранила памяти об этом событии, есть в чистом виде жизнь с ее пресловутой жестокой иронией. Посему, если бы мы, подобно историкам, подчинились голым данным, эти две фигуры, столь важные для нашего континента, вынуждены были бы немедленно удалиться, немотствуя, и окончательно, без формальностей, затеряться в противоположных концах дворца либо в неведомых закоулках времени.
Поэтому я никогда не доверял ничему «историческому», всем этим «тщательно выверенным» сведениям. Ибо что есть, в конце концов, История? Череда папок, расставленных в более или менее хронологическом порядке? Разве История вбирает в себя важнейший миг, когда брат Сервандо встречается с мексиканской агавой, или чувства Эредиа, не находящего на безутешном горизонте своей души возлюбленной пальмы? Порывы, побуждения, тайны восприятия, которые направляют (создают) человека, не включены и не могут быть включены в Историю, как — даже под самым скальпелем — не уловить боль болящего.
В Истории остается дата сражения, свидетельствующие о нем же погибшие — то есть очевидное. Эти устрашающие нагромождения подводят итог (и этого довольно) мимолетному. Следствию, но не причине. Поэтому я больше ищу не в Истории, а во времени. В непрерывном и разнообразном времени, метафора которого — жерловина. Ведь человек, в общем, и есть метафора Истории, ее жертва, даже если на первый взгляд кажется, будто он пытается изменить ее и, по мнению многих, меняет-таки. Большинство историков видит время как нечто линейное в своей бесконечности. Какие доказательства тому существуют? Элементарное суждение о том, что год тысяча пятисотый наступил раньше, чем обезглавили Марию Антуанетту? Можно подумать, времени есть дело до подобных знаков, можно подумать, ему известны прогресс и хронология, можно подумать, оно способно идти вперед. Простодушию человека, вознамерившегося наступить времени на пятки, пришпилить его и снабдить табличкой во имя прогрессивных или даже «прогрессистских» убеждений, противостоит само время. Как пришпилить бесконечность? Но человек не согласен жить перед лицом такого ужаса, отсюда — непрерывное извержение кодексов, дат, календ и так далее. Его прогресс… Когда во времени — в любом времени — нам попадается истинная, ошеломляющая личность, нас более всего поражает именно ее непринадлежность ко времени, читай, современность; ее свойство бесконечности. Ибо бесконечен, а не историчен Ахилл с его гневом и его любовью, вне зависимости от того, существовал он или нет; как бесконечен будет Иисус в силу своей неосуществимой философии, и тут уж все равно — отметила ли его История. Эти метафоры, эти образы принадлежат вечности.
Я думаю, что бесконечное не линейно и не очевидно, поскольку взгляд на реальность как на некое шествие или на фотографию представляет нам нечто на самом деле очень далекое от реальности. Поэтому так называемый реализм кажется мне как раз противоположностью реальности. Ведь при попытке подчинить реальность, уложить ее в некую ячейку, увидеть ее только с одной точки зрения («реалистической») логическим образом теряется полное восприятие этой реальности.
Однако в последнее время мы наблюдаем (и обречены на) не просто реализм; теперь у нас есть социалистический реализм, так что реальность видится теперь не просто под одним углом, а под политическим углом. Что же это будет за реальность, господи, если с этой точки зрения и под этим углом вынуждены будут всё видеть (и делать) жертвы такого реализма? По правде говоря, если уж
Я никогда не устану с удивлением обнаруживать, что дерево в шесть утра — уже не то в полдень и не то, в сени которого нам отрадно на закате. А этот ветерок, летящий в ночи, — может ли он остаться собой утром? А воды морские, взрезаемые под вечер пловцом, словно сладкий пирог, — разве они те же в полдень? И если время так явно влияет на дерево или на пейзаж, можем ли мы, существа самые что ни на есть чувствительные, остаться неуязвимы? Полагаю, совсем наоборот: мы жестоки и нежны, самолюбивы и великодушны, страстны и задумчивы, немногословны и шумливы, ужасны и великолепны, как море… Поэтому я старался в том малом, что сделал, и в той малой части сделанного, что мне принадлежит, отражать не одну реальность, а все или, по крайней мере, несколько.
Тот, кто по кровожадности случая прочтет какую-то из моих книг, найдет в них не одно противоречие, а несколько, не один тон, а множество, не одну линию, а скопище кругов. Таким образом, думаю, мои романы не могут читаться как история цепочки событий, зато могут — как волны прибоя, что разбегаются, возвращаются, вздуваются, откатываются, то нежнее, то яростнее, непрерывно, в шквале таких невероятных и таких невыносимых событий, что подчас они приносят освобождение.
Такова, я полагаю, и жизнь. Не догма, не шифр, не история, а тайна, к которой следует подбираться с разных сторон. Не с целью разгадать ее (это было бы ужасно), а с целью никогда не сдаваться.
И именно в этой плоскости, в роли безутешной и неугомонной жертвы Истории, времени, наш обожаемый брат Сервандо находит свое истинное пристанище. Он есть оправдание и покровитель этой своеобразной, бесформенной и отчаянной поэмы, этой несущейся вскачь и полноводной, непочтительной и гротескной, скорбной и любовной лжи, этого (надо же его как-то назвать) романа.
Рейнальдо Аренас
Каракас, 13 июля 1980 года
Мексика
Глава I
О том, как протекает мое детство в Монтеррее вместе со всем прочим, что также протекает
Мы идем с пальмового пригорка. Мы не идем с пальмового пригорка. Мы с двумя Хосефами идем с пальмового пригорка. Я один иду с пальмового пригорка, и вот уже почти наступает ночь. Здесь стоит ночь, пока не рассветет. Во всем Монтеррее так: встаешь, выглянул в окно — уже и темнеет. Поэтому лучше вовсе не вставать.
Но сейчас я иду с пальмового пригорка, и на дворе день. И солнце дробит камни. И вот такие расшибленные камушки я подбираю и запускаю в голову моим Равным Сестрам. Моим сестрам. Моим сестрам. Моим сес.
Там я обретался: отдыхал под большими шипами. Отдыхал от погони и от того, как обшустрил пропойцу-учителя. Тот, окаянный, схватил прут айвового дерева и в щепки разметал его по моей спине, и
Запертый там, я подскочил, желая достать до окна, упиравшегося почти в самые облака. Не
И там я лежал, оправляясь от падения и от клевков твари, как вдруг вижу: чертов осел-учитель бежит прямиком ко мне. На бегу он тряс горящим айвовым прутом и отпускал такие суждения, каких я доселе не слыхивал, и собирался поджарить меня до самых кишок, а за ним неслись все мои однокашники.
Я кинулся напролом через пальмовые стволы, крича мать. Но в ту пору моя мать трепала хлопок-чтобы-напрясть-ниток-чтобы-наткать-полотна-чтобы-продать-чтобы-купить-длинных-тыкв-чтобы-когда-время-подойдет-гнать-пульке-этими-тыквами-навысасывать-сока-из-агавы-чтобы-сделать-из-нее-пульке-чтобы-продать-чтобы-купить-всякого-барахла-чтобы-подарить-падре-чтобы-он-снова-освятил-нам-скотину-чтобы-не-помирала — как-уже- бывало-помирала. К тому же и мать померла.
Потому я чуял, что караван вот-вот настигнет меня, и орал во всю мочь. И выкрикивал непотребное. И вот уже учитель протянул косматую руку. И собрался меня ухватить, как вдруг одна пальма (сжалившись надо мной) сбрасывает свой длинный колючий лист прямо на хребтину старому ослу, а тот, ощутив укол в спину, рассудил так, что это дьявольское наказание, и пустился, подняв руки и отфыркиваясь, к школе, а за ним все шалопуты-ученики, покуда я метал в них все, что попадалось.
Вообразите: тогда я захотел отблагодарить пальму за то, что спасла меня, и принялся гладить ее по стволу. А она, неблагодарная, хвать меня за руку и натыкала в нее шипов, так что они вышли с другой стороны. Тут уж я осерчал. Но боль была так сильна, что злость стала проходить, и я занялся умиранием, не зря мать говорит, всегда нужно чем-то заниматься.
Но вон бегут мои две сестры и, завидев меня, начинают меня тянуть за другую руку, чтобы оторвать от колючек. А я опять в ор, а они тянут-потянут, пока наконец пальма не отпустила меня, а я в ярости не подобрал поблизости камень и не швырнул Хосефам в голову и они не порснули по всей дороге. Но на середине пути развернулись и стали обстреливать меня коровьими костями, от тех коров, что у нас с голоду померли. И раз уж Хосеф было две, мне ничего не оставалось, как подняться ввысь и улететь.
Не успел и глазом моргнуть, как я уже дома, а там моя мать — на голове у нее горит свеча и еще по одной на каждом пальце — распахивает дверь, раскрывает рот, а оттуда свет, как от лампады, и говорит: «Заходи, бесенок, и ступай в комнату, учитель уже приходил жаловаться, всю неделю теперь не выйдешь».
Тут я оглянулся и увидел, что пальмы извиваются и обнимаются и разобнимаются стволами, будто хотят вырвать друг дружку из земли, и испускают столь тонкий и странный визг, что уши мои еле-еле в него уверовали. И листья их опадали. И все они колыхались в престранной злобе, словно хотели догнать меня и удушить, влекомые ветром, которого не было, потому что все, кроме них, в тот час оставалось недвижимым.
— Заходи, бесенок, — сказала моя мать, которая, казалось, ничего этого не видела.
— Мы пришли с пальмового пригорка, — сказал я, а она шевельнула пальцем со свечой и затушила ту свечу о мой глаз. Я стал подыматься по лестнице и сверху снова сказал ей, что мы пришли с пальмового пригорка, а она опять осердилась, затрясла рукой, будто хотела стряхнуть капли, махнула в мою сторону, и все свечи полетели мне прямо в голову; не отскочи я — обуглился бы.
Сейчас, сверху, я слышу, как скачет Флойран, а две Хосефы швыряются землей друг дружке в волосы там, во дворике. Но мне сегодня вечером не поиграть. Ни в шарики. Ни в кегли. Ни во что. Разве только… Хотя нет.
Глава I
О твоем детстве в Монтеррее и о всем прочем, что также происходит
Ты идешь с пальмового пригорка. Ты провел там целый день, под редкими листьями единственных во всей округе деревьев. В раздумьях.
Уворачиваясь от солнца, ютясь под стеблями, чтобы не сгореть заживо.
Ты идешь с пальмового пригорка. После того как повырывал с корнем все пальмы и слышал, как они орут, совсем как ты, когда у тебя выдирают клещей.
Ты не ходил в школу, а в полдень не возвращался домой обедать.
Слушай, как две Хосефы голосят на всю округу. Они разыскивают тебя с прутами в руках. Откуда бы взяться прутам, если деревьев не осталось?
Вот-вот догонят тебя. Вот-вот схватят. А тут и пальмы подоспели, орущие, свежевырванные.
Сейчас они разобьют пруты о твою голову. И до- мой ты явишься с размозженной головой.
А твоя мать будет ждать тебя на пороге. А ты — держаться за голову.
Вот мать толкает тебя. И огревает два раза палкой. А ты и рта не раскрываешь, потому что строптивый и выносливый. «Ступай вниз, в клеть», — велели тебе и набросили веревку на шею. И вот уже ты в клети, на уровне земли. И уже не день, но еще и не ночь… Поют скорпионы, и все кругом красновато.
Скорпионы поют: «Вот идет младенец Иисус-с-с-с. Вот идет младенец Иисус-с-с-с»: «жаль его власть», «жаль его власть».
Является мать и отрезает тебе руки. И спрашивает: «Кто выкорчевал пальму?» «Он», — говорят другие, не певшие, скорпионы, выходя из красноватого камня. Тогда отец достает красноватый нож и с плачем отрезает тебе другую руку. Третью. И сеет ее в красноватую дюну. (Смеркается.) Все красновато. Но на дворе не день и не ночь, и в окно ты видишь, как дюна подбирается к небу, пока не сливается с ним. Наконец там проклёвывается куст рук.
Здесь всё — камни и песок, некогда бывший камнями. Монтеррей живет в каменном веке. Но потихоньку переходим в песочный. А потом наступит пыльный.
Все красно. И песок мерцает меж камнями.
Слышно, как смеются две Хосефы, они бросаются песком друг дружке в глаза, пока не ослепнут, покуда Флойран швыряет камни в небо, да все без толку. Ты бы до неба достал. Но нынче вечером тебе не играть и не носиться по всей дюне и не раздирать (развешанные там) простыни, чтобы доказать сестрам и брату, что это никакие не привидения.
Но на закате, верхом на айвовом пруте, является твой отец с новой истиной. И ты слышишь топот копыт, хотя он пришел пешим.
Ты удираешь через замочную скважину. Отрезаешь себе руки и сеешь. Беги. Беги. Беги. Больше ты этими руками не срубишь ни одного дерева. Единственного во всей деревне. Оставь его, пусть его сожрут скорпионы! Черные скорпионы.
Скорпионы составили для тебя хор… Кабы скорпионы пели, в этом селении не было бы так тихо. Но они и не пикнут. Приближаются, а если и плачут, то молча… Ты уже чувствуешь, как они идут по твоим первым пальцам. Вот взбираются по поросшим листьями ногам. Вот касаются ягодиц… Ты посреди дюны, плачешь. Ты пустился наутек, а скорпионы взлетели и уже выдергивают твои стебли. Разоряют твои бутоны. Срывают твои листья. Спускаются к корням.
Лучше бы тебе подумать о другом.
