Соположение чрезвычайностей
После трех месяцев самоизоляции и карантинных ограничений на данном этапе можно считать, что стало возможным сдержать и продолжать сдерживать болезнь. Фатальность, приписываемая ранее этому глобальному событию, исчерпана. Сейчас, когда болезнь уже встроилась в нашу повседневную жизнь, существует на ее фоне и этот фон задает, следует определить некоторые векторы размышления о пережитом опыте пандемии, отталкиваясь от приведенных здесь ключевых эссе и монографий.

Примечательно, насколько необычными во время пандемии стали практики мобилизации людей в разных странах против роста числа зараженных. Примерами такой тенденции, когда общественность самостоятельно противостояла болезни, являются практики самоконтроля и контроля за другими людьми. Они проявились не только в инициативном следовании предписаниям носить маски в общественных местах и соблюдать физическую дистанцию, но и в призыве других людей следовать этим новым правилам. В качестве практик мобилизации заслуживает внимание и низовая солидарность и помощь людям, пострадавшим от самого вируса, а впоследствии — и от принятых карантинных мер. Их примерами являются флешмобы в знак благодарности врачам, а также совместное исполнение песен соседями по двору. С другой стороны, к этим практикам относится надзор за подобающим соблюдением теми же соседями карантинных ограничений, который носит горизонтальный характер. Абсурдизация самозваного контроля обрела характер балконного гестапо, если использовать термин, предложенный социальным антропологом Александрой Архиповой.
Этот процесс быстрой и активной мобилизации демонстрирует не только способность гражданских обществ по всему миру быть контролирующей инстанцией для своих же субъектов. Он также репрезентирует усилившиеся беспокойство и тревожность повседневной жизни. Именно эти чувства, которые были характерны для большого числа людей и до карантина, сублимировались и нашли воплощение в инициативном временном отказе от обычного жизненного ритма в пользу меньшего количества жертв или, скорее, меньшей нагрузки на медицинскую систему.
Тревожность и беспокойство усилились на фоне угрожающей опасности болезни. Этому способствовал в том числе транслируемый массовой культурой образ катастрофы и апокалипсиса — отсюда исчезающие с полок продукты и сопутствующие товары. Паническое поведение возникает стихийно и демонстрирует, что люди инстинктивно сопротивляются разрушению привычного и деконструкции общественных иерархий. Паника стала свидетельством этой реакции на подлинную или мнимую опасность.
Вирусы во время пандемии действуют и распространяются так же, как и информационный шум (buzz). Он в действительности не является чем-то новым для глобального сообщества цифровой эпохи, при этом в условиях мировой эпидемиологической угрозы информационное загрязнение приобрело несколько иной характер, связанный с инстинктивным проявлением заботы о других людях перед лицом опасности. Накопление слухов и легенд вокруг болезни породило новую мифологию и всевозможные сценарии грядущих событий.
При этом на фоне избытка информации нескончаемый поток новостей об угрожающей человечеству болезни возрос настолько, что стал масштабнее самой транслируемой угрозы. Подобный перевес в сторону медиатизации пандемии связан с тем, что люди, включая большинство врачей, сталкивались с ней меньше в реальных условиях, чем узнавали о ней из новостей и ленты в соцсетях. Из этого можно было бы подумать, что болезнь стала невидимой или ее, возможно, совсем не существует, она является лишь сконструированным информационным поводом. Искажение в восприятии болезни и ее опасности привело к тому, что во всем мире ежедневно передавалось невиданное до тех пор количество слухов, непроверенных новостей и сообщений, которые подчас не только сопровождали пандемию, но и предшествовали ей. Ученое сообщество вместе со Всемирной организацией здравоохранения назвало этот процесс инфодемией. Это один из тех терминов, которые составляют теперь новый глоссарий слов, активно появляющихся в употреблении во время пандемии.
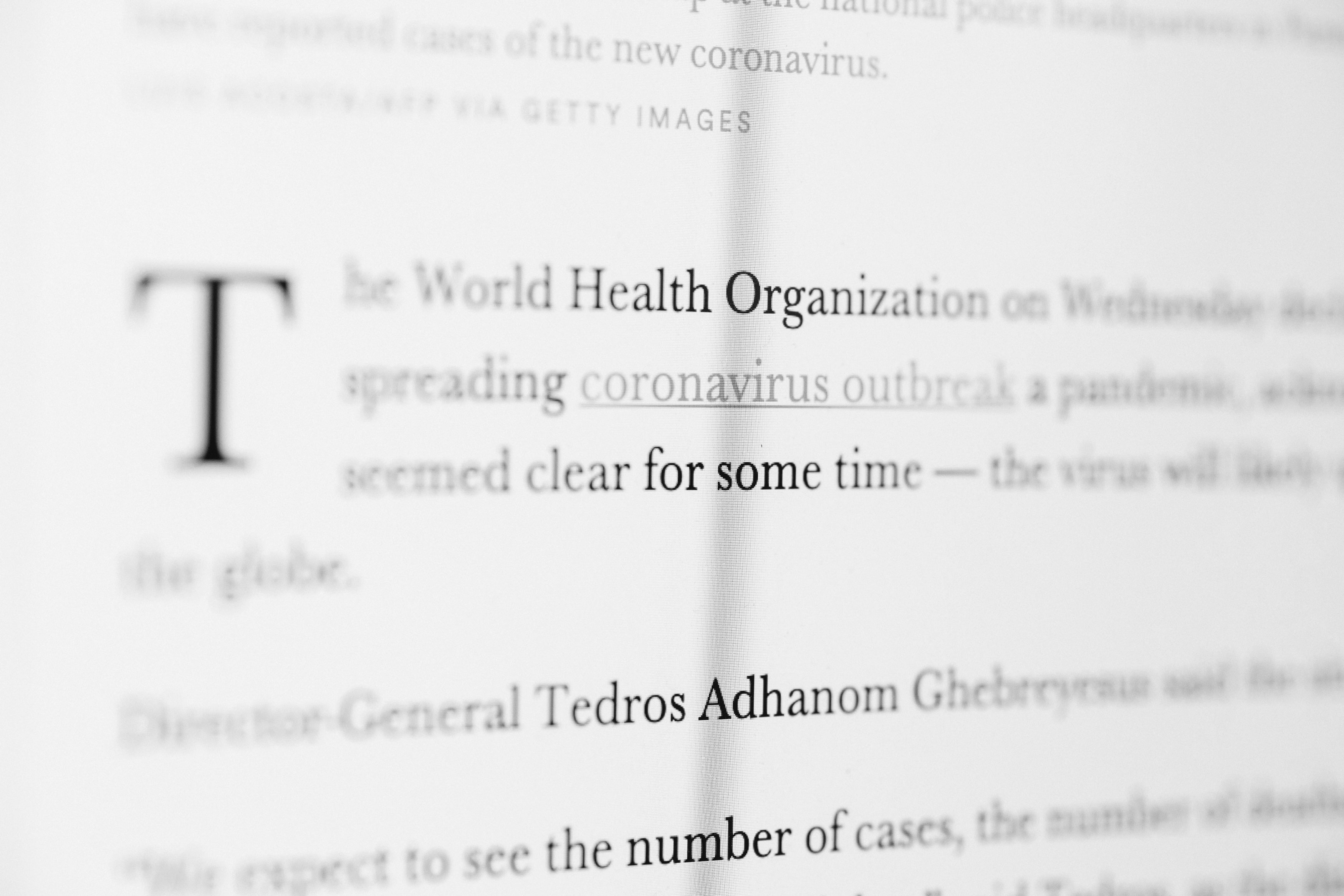
Из описанной схожести в процессах и масштабах распространения вируса и информации стало популярным представление о том, что и сами медиа могут представлять угрозу. Советы ограничивать себя в чтении новостей и просмотре другого контента, которые ранее были более известны как практики цифрового детокса, обрели, пожалуй, такую же эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией, как и санитарные меры.
Сходство по эффекту от распространения болезни и искаженной информации о ней невольно заставляет провести историческую аналогию с событиями столетней давности, происходившими в обществе модерна начала XX века. Беспрецедентный акт массового насилия, совершенный на Первой мировой войне, сформировал привычку к нему у межвоенного поколения. Сама же война стала, пожалуй, ключевой причиной той панической шпиономании, которая нарастала по всей Европе. Конспирологический накал того времени обретал все большую значимость.
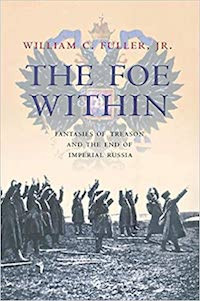
Об этом говорит американский военный историк Уильям Фуллер в книге «Внутренний враг. Шпиономания и закат императорской России». Появилось представление о некой незаметной, но распространяющейся фигуре, которая вредит обществу. Позднее эти абстрактные домыслы трансформировались и конкретизировались в идее о некоторой социальной группе, которая представляет угрозу и является опасной и «заразной». Предполагалось, что вред от нее мог распространяться как средствами пропаганды, так и от одного человека другому в ходе разговора.
В 1917 году в России произошло резкое переосмысление политической культуры, связанное с явлением шпиономании как ощущением опасности. Эта метафора заразы, примечательная и витальная, возникла из бытового осмысления открытия инфекционного заболевания Луи Пастером, а также
Понимание нечистоты как амбивалентной категории стало поводом для дальнейшего осмысления этого понятия со стороны социальных антропологов. В 1966 году в свет вышел основополагающий труд Мэри Дуглас «Чистота и опасность: анализ понятий загрязнения и табу». В ней британская исследовательница рассматривает борьбу с грязью как стремление упорядочить и организовать окружающий мир. Мытье, чистка и дезинфицирование, ставшие привычкой в современном посткарантинном мире, сравниваются с первобытными обрядами ритуального очищения. Гигиена оказывается поразительно схожа по значению с символическими практиками доисторических обществ. Это объясняет множество повседневных действий, связанных не только с предписанием регулярно мыть руки, носить маски и держаться друг от друга на дистанции, но и с применением близких к ритуальным действий. К ним относится, например, создание оберегов от коронавируса или использование средств народной медицины, аплодисменты врачам.
Отдельного внимания заслуживает сакрализация опасности, о которой говорит Дуглас. В соответствии с ее утверждением, опасность заключается в переходном состоянии, когда еще неизвестно, заразен человек или нет, потому что оно пугает собственной неопределенностью. Особенно когда болезнь на терминальной и ранней стадии не проявляется внешне. Человек, еще не перешедший ни в состояние зараженного, ни в состояние здорового, сам находится в опасности и представляет опасность для окружающих.

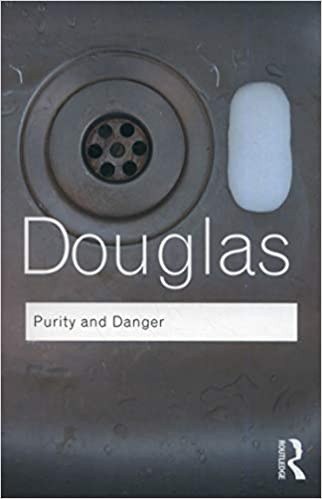
Этот тезис был проиллюстрирован во время пандемии довольно недвусмысленным образом через порицание тех людей, которые не соблюдали карантинный режим. Важно, что акт осуждения и дисциплинирования носил горизонтальный характер и не был напрямую связан с властными структурами. Вместе с тем пограничное состояние неопределенности по поводу заражения рассматривается как одновременно потенциально опасное и потенциально ведущее к силе — исцелению.
В то же время не стоит преувеличивать масштабы и степень влияния пандемии на современную общественную жизнь, поскольку из наблюдения за сегодняшней ситуацией становится понятно, что последствия карантинных мер пусть и обернулись глобальной экономической проблемой, но не сравнились по воздействию с мировыми катастрофами прошлых столетий, описанных здесь. При этом еще рано говорить о ее долгосрочных последствиях, поскольку мы находимся внутри событий. На вероятный исход пандемии указывают, среди прочего, достижения вирусологии и эпидемиологии, а также заметно возросший за последние пятьдесят лет уровень общественного благосостояния в большинстве стран мира. Немецкий философ Герман Люббе в работе «В ногу со временем. Сокращенное пребывание в настоящем» комментирует, в частности, обозначенный здесь процесс того, как смерть подчиняется медикализации, а также санитарным и гигиеническим требованиям. Он говорит, что настолько щепетильное отношение к мертвым, которые наряду с живыми оказываются в оковах санитарной власти, становится возможным только в такой культуре, где высокотехнологичная медицина стала подразумевающимся по умолчанию общественным благом.
Понятию санитарной власти требуется уделить больше внимания. Оно связано с тем, что методы санитарного и административного управления соединяются в форме биополитики. Будучи одной из видов биовласти, она делает заметной смену парадигмы в способах правления в европейских обществах, связанную с наступлением Нового времени. Эту идею ввел в дискурс социокультурных наук Мишель Фуко в своем курсе лекций под названием «Безопасность. Территория. Население». Образ суверенной власти, которая взимает ресурсы, взывает к чувству долга и способна законно предать людей смерти, сменяется политикой защиты человеческой жизни, охраны здоровья и благополучия людей для того, чтобы продолжать собственное правление. Население оказывается объектом заботы со стороны государства, но потому же — и предметом его неустанного надзора и контроля.
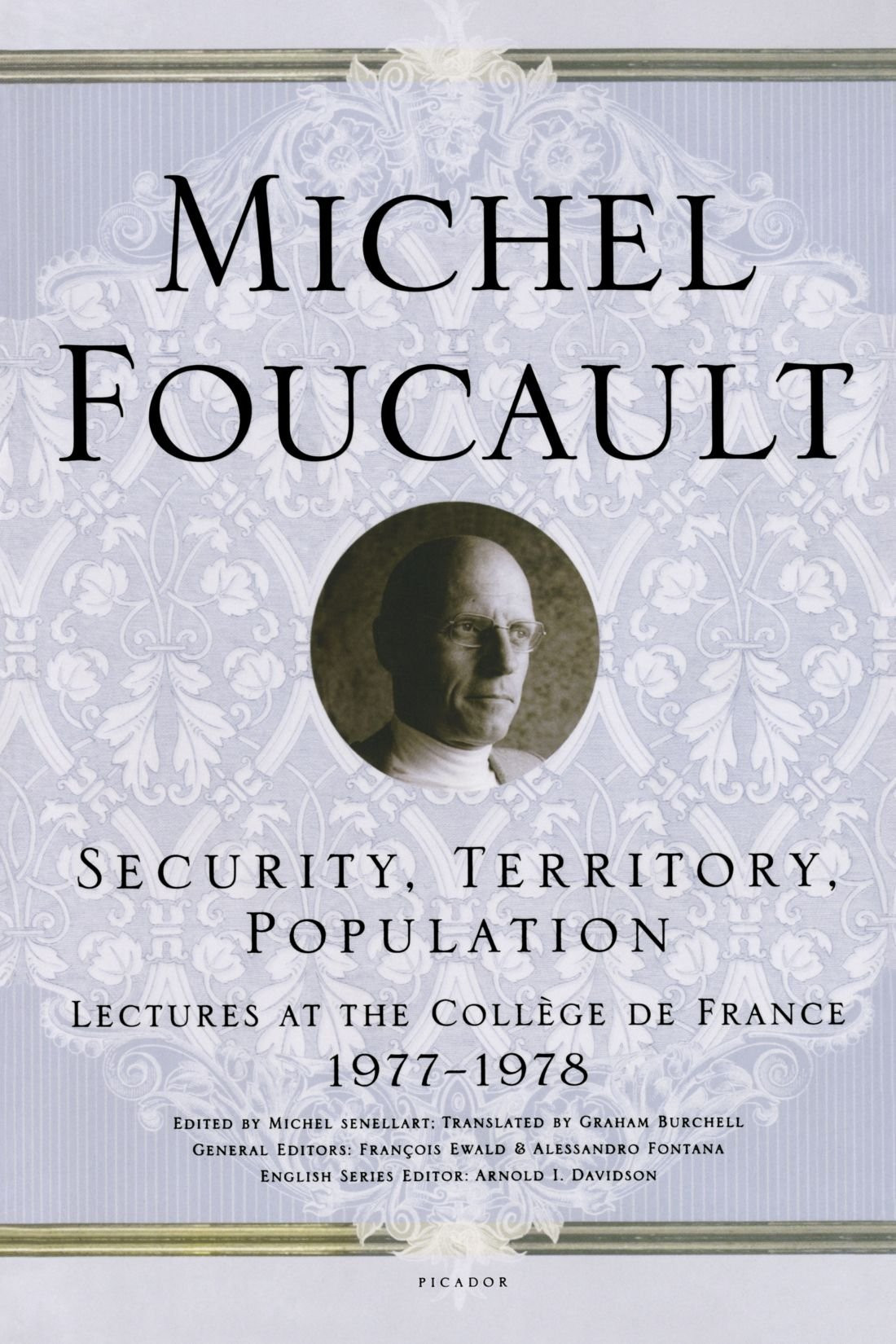
Несмотря на существование уже обозначенных практик низового контроля и солидарности, а также самостоятельно принимаемых мер защиты от болезни, их соблюдение или несоблюдение имеет значение политического акта. В частности, социальное дистанцирование и ношение масок в период пандемии — не только необходимость, но и обязанность, навязываемая государственной биовластью. Исходя из этой двойственности социальных практик, можно говорить, что решение следовать им или нет означает выбор между согласием или несогласием с действиями существующей административной и медицинской власти. При этом пандемия и локдаун бросили государственным структурам новый вызов в достижении баланса между ужесточением ограничений ради меньшего количества заразившихся и погибших или предотвращением дальнейшего падения экономики, даже если при этом придется пожертвовать здоровьем и жизнью населения.
Впрочем, массовость и интенсивность заболеваемости коронавирусной инфекцией заставила переосмыслить и необходимость в гигиенически чистых местах погребения. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить массовые захоронения в
Понятие гигиены, в его метафорическом словоупотреблении в эпоху Просвещения, как никогда в истории политики обладало способностью легитимировать специфически модерновую практику массовой ликвидаций людей. Очищение общества от тех, кто заражает его своим моральным разложением, — вот в чем содержался, начиная с Просвещения, с недвусмысленным использованием медицинской метафорики, глубинный смысл революционных массовых ликвидаций.
Примечательно и то, как в медиапространстве отражались данные о неуклонно возрастающем с каждым днем количестве погибших от коронавирусной инфекции и какое место они занимали в поле средств массовой информации. Сведения о погибших носили лишь числовой характер и преподносились в одном стиле с данными о количестве заразившихся и выздоровевших. Особой любовью со стороны медиа и властей была пропитана статистическая информация, содержащая графики заражения, многочисленную картографическую информацию и антирейтинг стран с самым большим количеством заражений в виде таблицы. Адорно и Хоркхаймер в «Диалектике Просвещения» утверждали, что с помощью статистики смертности общество позволяет низводить человеческую жизнь до химического процесса.

Подобный жест, когда больных представляют в виде числового выражения, содержит в себе несколько более острую проблему, чем безразличие и пресыщенность информационным шумом, окружающим человека со всех сторон. Статистика предлагает свое решение в вопросе табуирования смерти: нужно лишь представить погибших как числовое выражение. Таким образом значимость смерти в медиапространстве уменьшается, она занимает место рядового инфоповода среди остальных. Это как нельзя лучше сочетается с тезисом о медикализации умирания и описанием французского историка Филиппа Арьеса в книге «Человек перед лицом смерти», которым он охарактеризовал парадигму отношения к смерти в современной культуре — «смерть перевернутая».
Пандемия позволила человечеству стать свидетелем одного из самых глубоких и невообразимых экономических кризисов за последнее столетие. Ситуация, когда авиакомпаниям стало не хватать места для собственных бездействующих самолетов, чтобы припарковать их, равно как и сама фотография сотен нелетающих воздушных судов, кажется немыслимой и ужасающей. Наблюдая за глубокими и резкими изменениями, которые принесла пандемия, следует заметить, что ее последствия будут связаны с ценностной переоценкой вовлеченности богатых людей в социальную сферу жизни человечества. Вопрос о социальной ответственности перед обществом за владение и распоряжение богатством встанет острее, чем это было до сих пор. Это связано с еще более обострившимся и заметным во время карантина социальным неравенством.
Мутировавший в результате пандемии средний класс перейдет в новый и опасный, по выражению британского экономиста Гая Стендинга, класс прекариата. Вынужденно долгий карантин, связанный, помимо прочего, либо с потерей работы, либо с переходом на удаленный формат, актуализирует со все большей силой процессы цифровизации и роботизации экономики. Становится зримым присутствие запроса на новую социальную справедливость, равный доступ к медицине и переоценку общественной значимости тех сфер человеческой деятельности, которые раньше воспринимались как само собой разумеющаяся услуга. Речь, в первую очередь, идет о профессиях врача, курьера, водителя такси и уборщика. Явной становится потребность и в осмыслении тех трансформаций, которые происходят с обществом, экономикой и культурой, а потому и фигура художника и интеллектуала обретает новую значимость.
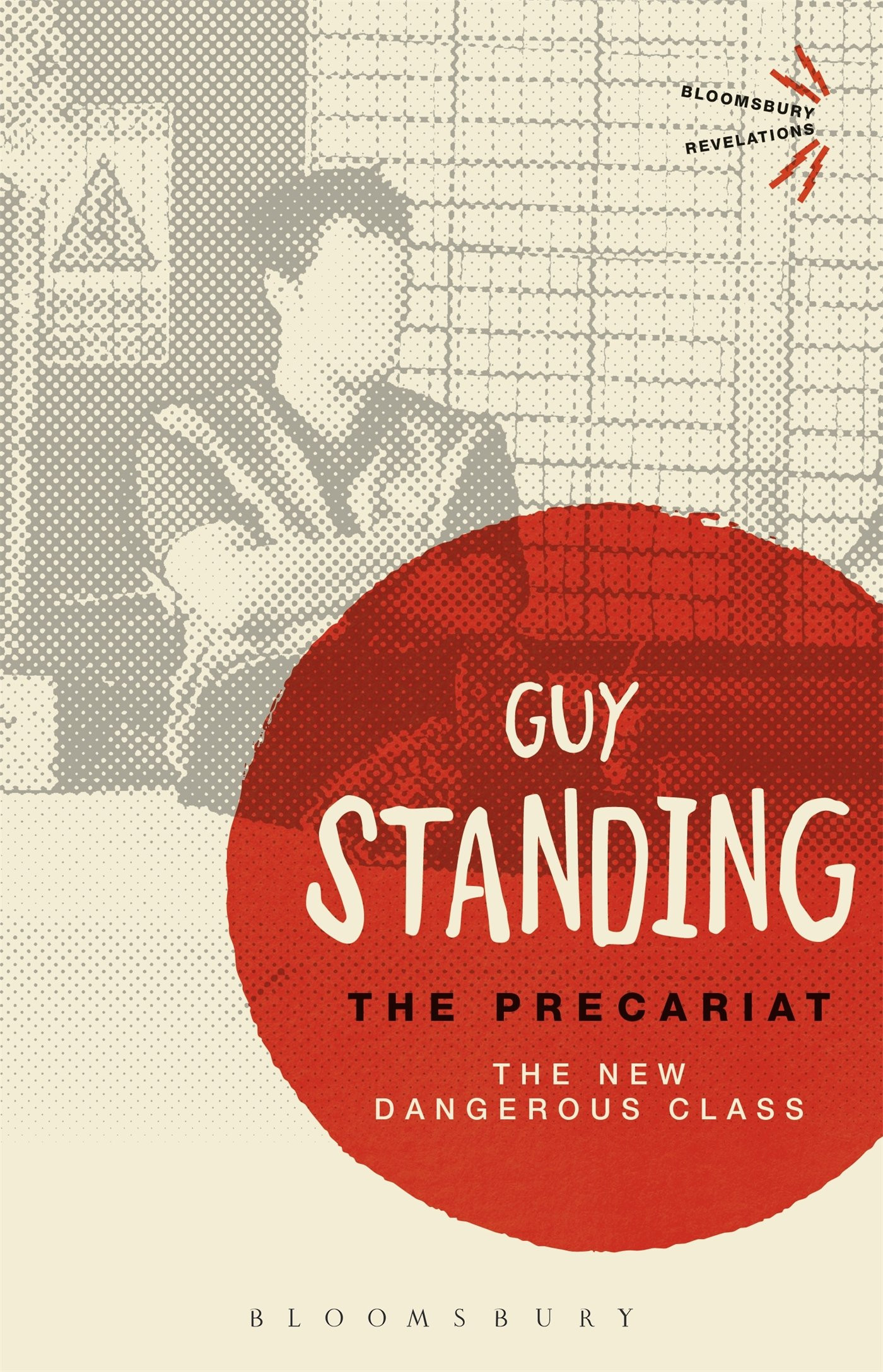
Вместе с тем для многих карантин оказался поводом к актуализации и повседневного пространства. Интерес к собственной квартире, дому и району обострился под влиянием вынужденного долгого пребывания в этих локациях. Пандемия заставила нас по-новому посмотреть на представления о личном пространстве, а также о том вернакулярном районе города, в котором мы оказались на несколько месяцев.
Учитывая, что коронавирусная инфекция передается среди людей контактным и
Сегодняшняя пандемия актуализировала вопрос человеческих контактов под невиданным ранее углом — как нам жить вместе в условиях явного и непоколебимого социального и географического неравенства. В том контексте, когда дистанцирование и удаленность переопределены как новые ценности, а особенности изоляции в Москве и в провинциальных городах разительно отличаются друг от друга. Эта разница проявляется в структуре нервного и пресыщенного контактами образа жизни больших городов и более размеренной, не изобилующей интеракциями жизни в провинции. В ней изоляция, как представляется, оказалась острее и ощутимее, несмотря на тенденции к глобализации и цифровизации.
Обратной стороной этих различий является географическая дискриминация в распределении общественных благ. Пусть в условиях периферии уровень заражаемости ниже, чем в густонаселенных городах, однако заболевшие в небольших и даже не отдаленных от центра населенных пунктах имеют меньше возможностей получить квалифицированную медицинскую помощь. В то время как в большом городе на одного заразившегося придется большее количество врачей, медперсонала и социальных служб, которые будут противостоять распространению болезни.


Карантинные меры тесно связаны и с представлением о времени. Медленно тянущиеся дни, проведенные в условиях самоизоляции, напоминали о чувстве отсутствия времени или даже о знакомом по опыту советского прошлого ощущении вненаходимости. Если рассматривать период изоляции ретроспективно, можно наблюдать, что время не только растягивается, но и исчезает, спрессовывается до одного воспоминания, ощущения стиля. Оно вместе с глобальными экономическими процессами затормозилось на три месяца, которые человечество вынуждено было проводить друг от друга на расстоянии. При этом лихорадочный и стихийный характер приобрела тенденция к самообразованию. Тем книгам, фильмам, онлайн-курсам, которые долгое время откладывались на потом, наконец-то представилась возможность быть изученными.
Размышления приводят ко вполне закономерному желанию ретроспективно взглянуть на прошлое и осмыслить его в условиях, когда время остановилось. При этом анализ пространства опыта, следуя теории Райнхарта Козеллека, немыслим без построения горизонта ожиданий. Потому сейчас в информационном поле можно встретить многочисленные прогнозы, пророчества и предсказания. Они призывают представить сценарии возможного будущего, потому что история не является постоянным безвременным и предопределенным понятием. Она динамично развивается, оказываясь зависимой от того, какие осмысления прошлого присутствуют в настоящем и как эти представления влияют на наши ожидания от будущего.
Текст опубликован в каталоге выставки «Чрезвычайное положение» (кураторы: Марина Бобылева, София Ковалева, Ирина Литвякова, Полина Могилина, Кристина Романова, Наиль Фархатдинов; галерея «Триумф») 14 июля 2020 года.
