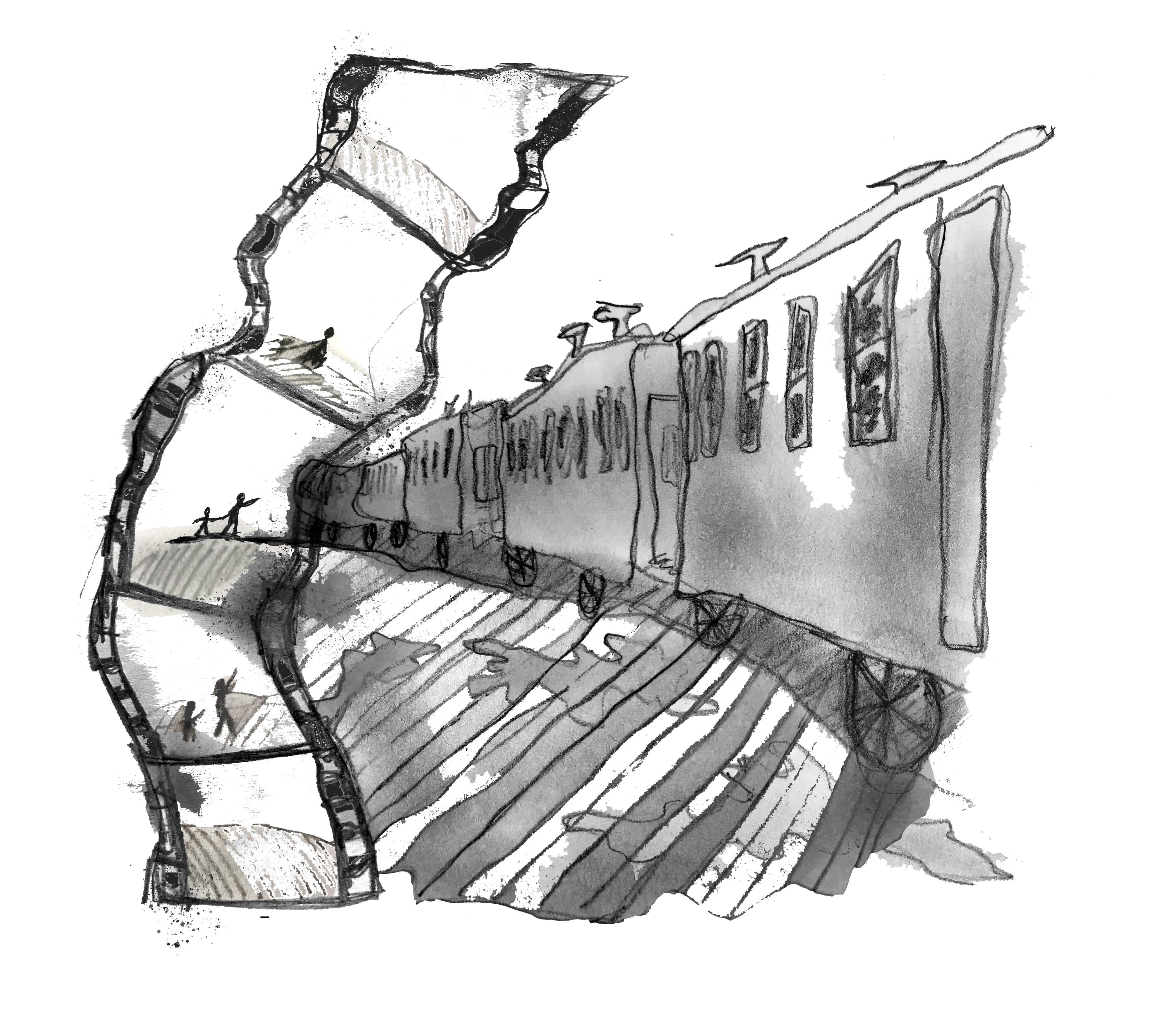Андрей Гореликов. Последнее возвращение: Андрей Платонов и кинематограф
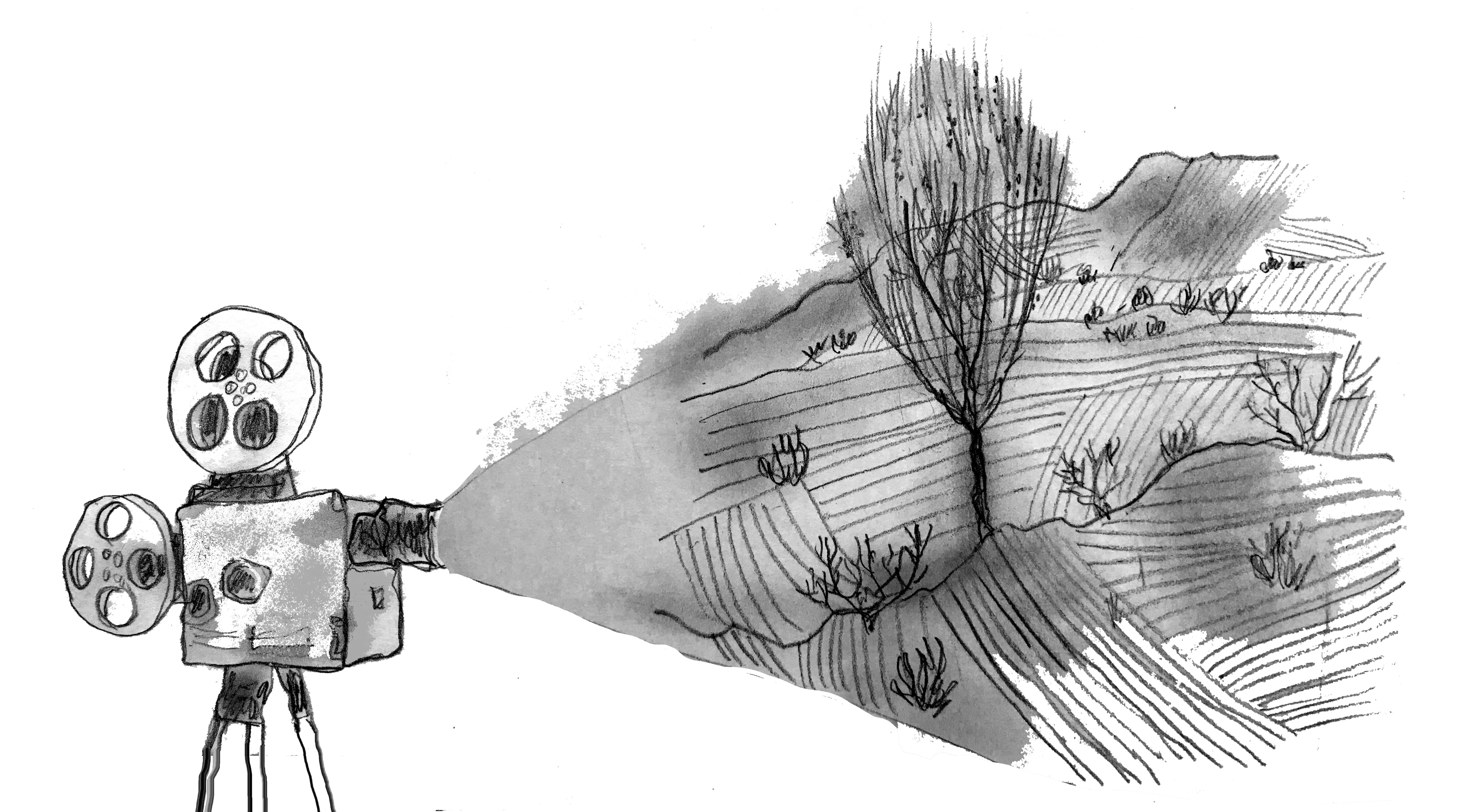
Андрей Платонов был инженером-самоделкиным, мечтавшим построить на
Уникальная поэтика его текстов отразила гибель «большой» литературы в трагическую эпоху: больше об этом мире на этом языке сказать уже нельзя и нечего. Но несостоявшийся приход Платонова в кино мог бы дать его художественному миру вторую жизнь, его образы, подобно платоновским теням в пещере, проявленные на экране, заговорили бы с массовым зрителем, сменившим массового читателя. Если бы только такой язык и такая эстетика оказались допущены в унифицирующийся мир тридцатых.
Пустыня
Он активно пытался прорваться в кинематограф, написав по крайней мере двенадцать сценариев за двадцать лет. Толчком, вероятно, стала встреча молодого писателя с Виктором Шкловским в середине двадцатых годов. Знакомство было судьбоносным во многих смыслах. Платонов вскоре оставил профессию инженера-мелиоратора, опубликовал первое большое произведение «Епифанские шлюзы», переехал в Москву и начал работать сценаристом.
Первым кинолибретто, скорее всего, стала «Песчаная учительница» по собственному рассказу писателя. Шкловский помогал Платонову в работе — теперь уже трудно установить, насколько плотно. Сюжет и темы, конечно, были совсем платоновские: молодая учительница в азиатской пустыне, тоскующей без мелиорации, где местные племена живут первобытным укладом, а мертвые пески с каждым днем наметают все больше.
Здесь сошлись и холодная, но яростная жертвенность героев Платонова, ценой своей отброшенной, как кожа, жизни и молодости, стоящих на земле Царство Небесное. И ощущение вечного, тягучего одиночества, сумеречной тоски человека, узнавшего, что мир будет жить и без него, его не заметив.
Можно представить, как тонко Платонов чувствует киноизображение по такому фрагменту либретто:
«На черных волосах Гюлизар отсвечивает через окно высокое летнее степное солнце. Его свет есть и на полу, но он перебивается тенями летящих в воздухе птиц».
Кадр, достойный лучших поэтов большого кинематографа. Кстати, в первую пору писатель восторженно пересказывает слухи, что его сценарий будет ставить Всеволод Пудовкин. Что же, он, может, и мог бы.
Этот первый сценарий, в котором уже проявились главные темы Платонова, имел самую удачную судьбу. Удачную, правда, лишь по сравнению с неосуществленными проектами. Пять лет «Учительница» переписывалась, пересылалась, ждала в разных инстанциях, пока не была переработана режиссером Марией Смирновой в фильм «Айна». Платонов, по крайней мере, видел это порождение своего замысла — именем Айна, которого не было в первом сценарии, он позже наречет героиню «Ювенильного моря».
Фильм не сохранился, но нам известно, что его критиковали за безыдейность — а дело было в 1931 году. Сам Платонов уже был не на хорошем счету, после «Шлюзов» и «Усомнившегося Макара». Зато в 1947, вдохновленная доставшейся ей историей, Смирнова напишет сценарий уж совсем правильной «Сельской учительницы».
Наконец, не лишним будет заметить, что «Айна» перекликается с вышедшем в том же году фильмом «Одна» Козинцева и Трауберга — и отягощенной символизмом жертвой девушки-учительницы, и азиатской темой. «Одна» — гораздо более известная картина, на которую сильно повлиял приход звука в советское кино. Этот переход принципиален и для киноработ Платонова.
Также в числе первых, видимо, сценариев писателя был «Машинист». Тут появляется тема паровоза, которую Платонов (сын машиниста) не оставит до конца карьеры. Поезд — древнейший киносимвол, который у Платонова собирает все возможные коннотации: механистическую, эротическую, прогрессорскую, и так далее. Здесь же, в «Машинисте», проявился и характерный для автора в дальнейшем быстрый, рваный монтажный ритм, и требовательность к освещению, кадру, всем визуальным деталям, наконец, тяга к передовым решениям, вплоть до привнесения в
Котлован
Замечено, что каркас «Машиниста» мог лечь в основу повести «Котлован», которую Платонов как раз в это время пишет «в стол». Это касается не только сюжета: сама поэтика Платонова парадоксально-визуальна. Парадоксально, потому что слова Платонова, как известно, неудобны, словно торчат из строки. Но если проникнуть в их колдовской ритм, возникнут практически осязаемые визуальные образы. Это отношение к слову и знаку, его остранению и оживлению, характерна для всего авангарда 1920-х, включая новый кинематограф. И киноэстетика начинает влиять на прозу Платонова, самые значимые ее образцы.
Пазолини (конечно, не читавший платоновских сценариев) отмечал по поводу «Чевенгура» с его «свободным монтажным изложением». Если сопоставить это со сказанным о внимательном отношении автора к кинодеталям в его сценариях, получится, что Платонов мог стать идеальным автором, писателем-режиссером, снимающим поэтом. Как Шукшин, как тот же Пазолини. Проблема в том, что кино, которое мог снять Платонов, совершенно нельзя было снять тогда.
Еще можно представить, как некий добросовестный оператор пытается выполнить такое указание сценариста: «Просьба попытаться дать ослепительную призрачность летнего вечера, время накануне ночи, пустоту воздуха, всеобщую световую паузу». Или, что дерево в сценарии «Епифанских шлюзов» будет падать рывками, «как бы томясь и раздумывая». Но то невозможное, что люди никогда не говорят словами — это удел авторского кино. Авторской в то время можно было оставаться лишь устаревающей литературе, и то с известными оговорками.
Вернее, с прозой Платонова впору работать магическому и сюрреалистическому кино. Может быть, визионер Бунюэль уловил в воздухе то же беспокойство, что рассказчик Платонов, однако содержательно (если можно говорить о содержательности сюрреализма) ничего близкого не было. Может быть, медведя в кузне и труп девочки на дне гигантского котлована можно представить в мистическом кино, вроде Ходоровски. И единственно точная интонация Платонова, конечно, была в главной экранизации его прозы, «Одиноком голосе человека» Александра Сокурова.
С другой стороны, киновед Наум Клейман заметил, что Платонова напрасно избегают сравнивать с Эйзенштейном.
«…один аспект соединяет Платонова и Эйзенштейна впрямую: сочетание утопии и реальности, так актуальное в 1920-е и в начале 1930-х годов. Оба, пытаясь реализовать утопию, смотрели на это с разных точек зрения, как бы с двух сторон прорывали тоннель — и должны были встретиться рано или поздно».
Конечно, ничего общего не могло быть в их кино, скажем, визуально. Геометричный, холодный Эйзенштейн, сталкивающий разнородные образы, пока не высечет искру. И Платонов, который всматривается в образ, пока тот божественным пламенем не вспыхнет изнутри. Но Гринуэй, совершенно поэтический режиссер, открыл своего «Эйзенштейна в Гуанахуато», и этот магический мексиканский реализм, возможно, та точка, где двое сходятся.
Электричество
«Наше кино слепо», — пишет Платонов в начале тридцатых годов, когда в кинематограф пришел звук. Звук похоронил многие амбиции и экспериментальные открытия, в том числе, авангардистское кино платоновского типа, не успело то родиться. Актеры заговорили, превратив пространство кадра в театральную условность, классицистский нарратив победил на время. Неизбежно, это не был настоящий классицизм, а лишь его гипсовая имитация.
Друг и антипод Платонова Шкловский в тридцатые годы правит его поэтические сценарии, убеждает переписывать, что вот так вот, может, удастся протолкнуть. Если кино или литература это форма, искусства, она может притвориться, чем угодно. Для Платонова искусство было духом. Или, скорее, светом, хотя бы и электрическим.
Однако писатель почти двадцать лет выдает сценарии, так целеустремленно, словно уже видит их скорое воплощение. Темы его вполне своеобразны. В 1927 он делает заявку на сценарий коммунистической «космической одиссеи» по своему рассказу «Лунные изыскания»: отправление советского инженера на Луну кончается «гибелью, которая, может, и не гибель». При этом Платонов предлагает свои услуги по созданию инженерных приспособлений, необходимых для съемок явившегося в уме фильма. В 1934 он готовит сценарий «Свет на горизонта» с паранаучной и эзотерической тематикой «энергии света», коллективного «сотворения творца», борьбы двух сил за, опять, утопический рай. Новый генезис, новое «Да будет свет!».
Со временем Платонов оценил, конечно, силу звукового эффекта, и начал прописывать со свойственной ему скрупулезностью все работающие на образ звуки, от бурчания в животе до абсурдистских призывов по радио и неизбежного шума железной дороги. Но и здесь озвученное, разговорное слово (видимо, впротивовес продуманному-литературному) все же враждебно миру писателя. Слова в его сценариях, часто самые важные, могут быть сказаны впроброс, или заглушены паровозным гудком.
Как замечает Олег Алейников:
«Переходя на язык жестов, не связанных с
Мальчик: — Где тут свадьбы записывают?
Милиционерша отвечает ему, показывая жестами: прямо, направо, налево, направо…
Мальчик: — Я найду… Гляди, вон дорогу переходят: свисти скорей. Забываешь!
Красноречивый и многозначительный эпизод, дающий понять зрителю, что взаимопонимание на этот раз достигнуто благодаря «забывчивости» персонажа из мира казенных слов, не исполнившего предписанной ему «звуковой роли»…»
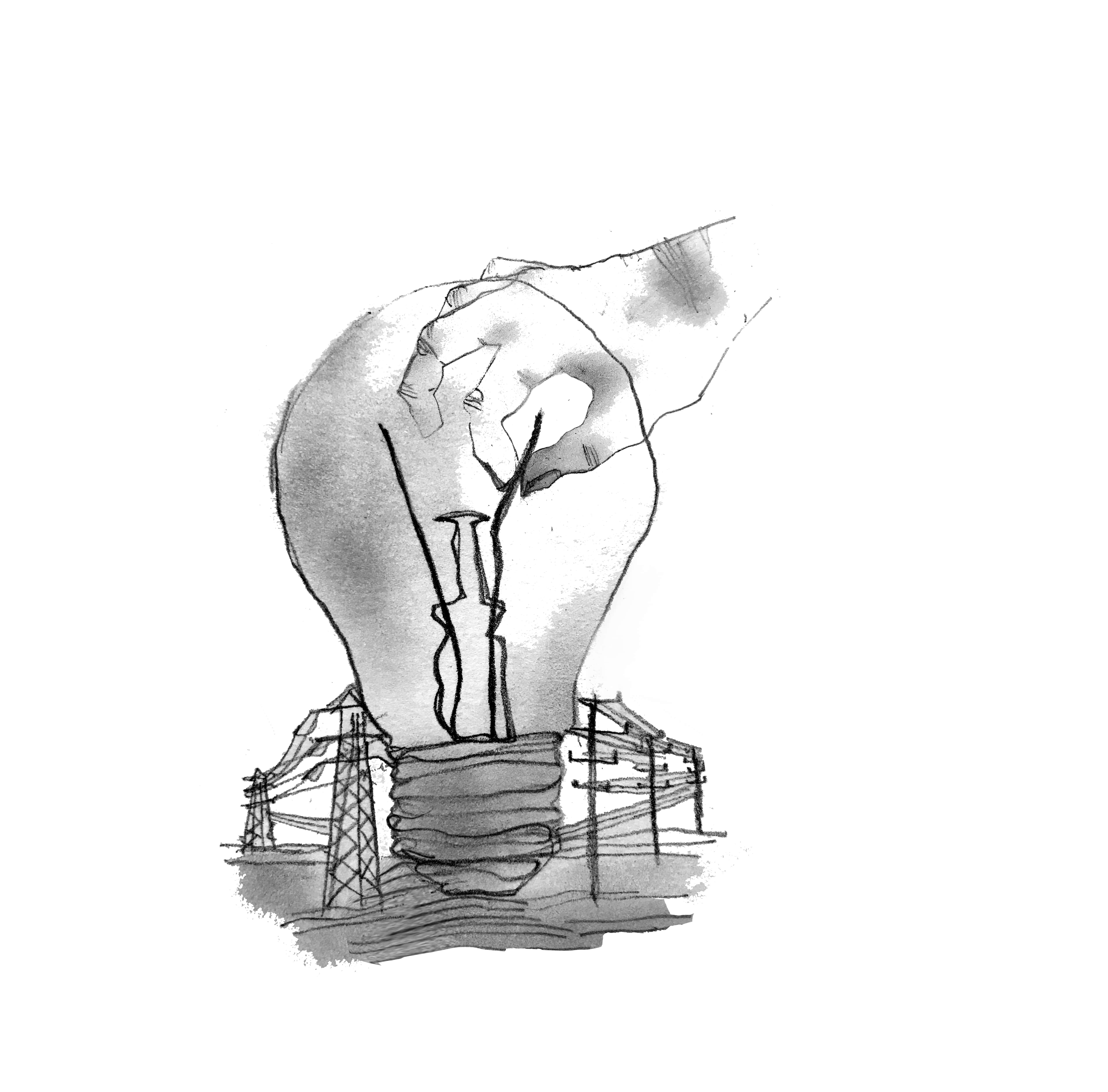
Дом
Все та же железная дорога едва не принесла Платонову в конце концов киноуспеха. По партийному заказу он, вместе с другими писателями, должен в 1935 году воспеть героев-тружеников транспортной отрасли. Из командировки на станцию Красный Лиман в Донбассе писатель вынес два рассказа, «Бессмертие» и «Среди животных и растений». В первом, самом обласканном властями, звучит телефонный голос самого транспортного наркома Кагановича, который с героем Эммануилом Левиным озабочен «выдумыванием людей заново». Каганович остался доволен, и Платонову был поручен сценарий на железнодорожную тему.
Это был сценарий «Воодушевление». Один из его персонажей — девушка Марфа-Арфа, ставшая, в конце концов героиней рассказа «Фро». Девушка, которая обреченно ждет — мужчину, нового человека, нового человечества. Вновь жертвенность людей и одушевленных машин, тема подвига, сочетается с неизбывностью одиночества брошенной жизни. «Воодушевление» посвящено остракизму, гражданской смерти обвиненного во «вредительстве» машиниста, и его возрождении через подвиг. Но все чаще в сценариях и рассказах Платонова этому мотиву сопутствует мотив сиротства, оставленности, тоскливый, как звуки губной гармошки мальчика-приятеля Арфы. Космические, идеальные контуры райского коммунизма Платонова — его литературного и визуального мира — одушевлены этой тоской по любви, одинокой любовью.
Все же ни железнодорожные, ни последующие туркменский («Аяз»), ни «семейные» («Отец-мать», «Неродная дочь») сценарии писателя не запустят в производство. Он вновь не ко времени: помогавший ему с поры знакомства Виктор Шкловский писал об «Июльской грозе» накануне войны, что это текст из другой эпохи. Но Платонов продолжает писать, превращая сценарии в рассказы и рассказы в кинотексты — эстетика этих его пространств в конце концов совпадает, несмотря на формальные ограничения.
Предчувствием в сценарии Платонова проникает холодок посмертия. «Давай помрем», — предлагает мальчик девочке в «Июльской грозе». «(Моя мама) тоже умерла. Моя мама там вместе с твоей живет», — другой мальчик другой девочке в «Неродной дочери».
После страшных, глухих лет Платонова, когда гибнет его сын, исчезает работа, начинается война, он пишет несколько военных сценариев, последние из которых — «Солдат-труженик или После войны» и «Семья Иванова». Герой первого сценария все идет с фронта к своей Арфе (очередная вариация «Воодушевления», где ссылка оказалась заменена на войну), по пути восстанавливая разрушенное и заброшенное за эти годы во всей стране. Приходит он в свою молодость обратно, к помолодевшей жене, как бы отменив своим архетипическим возвращением все, привнесенное дегуманизирующей силой мировой катастрофы.
«Семья» в 1946 году превратилась в рассказ «Возвращение» — последнее, что Платонов напечатал при жизни. Рассказ о возрождении любви, прощении и спасении от индивидуального одиночества. На самую кинематографическую тему: война, измена. Иванов видит своих детей, бегущих за поездом и сходит на землю, поезд отправляется дальше без него.
ТЕКСТ: Андрей Гореликов
ИЛЛЮСТРАЦИИ: Юля Тёмная