Проблема возможных миров
Сегодня мы с вами поговорим о поливариативности и возможных художественных мирах. Темы, на самом деле, сравнительно далеко друг от друга отстоят, но я считаю, что целесообразно рассматривать их в комплексе. Поэтому мы иногда будем прыгать туда-сюда.

Обычно авторство идеи о множественности миров приписывают господину Лейбницу. Разумеется, были и до него наработки, в частности в восточных религиях, но он красиво сформулировал этот момент и относится к прогрессивной западной цивилизации. В общем, он утверждал, что при сотворении мира Бог имел проекты многих миров, каждый из которых потенциально мог быть воплощен. Но Он остановился на лучшем из возможных. Не хотела бы задумываться об остальных.
Интересно, что Лейбниц выдвинул следующие три модальности для сотворенных миров (их обычно тройками выдвигают). Необходимый, возможный и случайный. При этом Лейбниц подчеркивал, что создать и удержать внутренне противоречивый и алогичный мир не смог бы даже Бог.
В ХХ веке лингвисты и прочие нехорошие люди стали разбирать тексты с когнитивной точки зрения. Они видели, что текст является своебразным пространством. Тогда же проскочили теории относительности, квантовой механики и прочие вещи, которые если не ставили нашу объективную реальность под вопрос, то, как минимум, допускали существование альтернативы. И текстовый мир — один из них. Вряд ли необходимый, но точно возможный.
Ги Дебор помимо «Общества спектакля» выдумал еще и теорию дрейфа, метод психогеографических спонтанных прогулок по городу. В
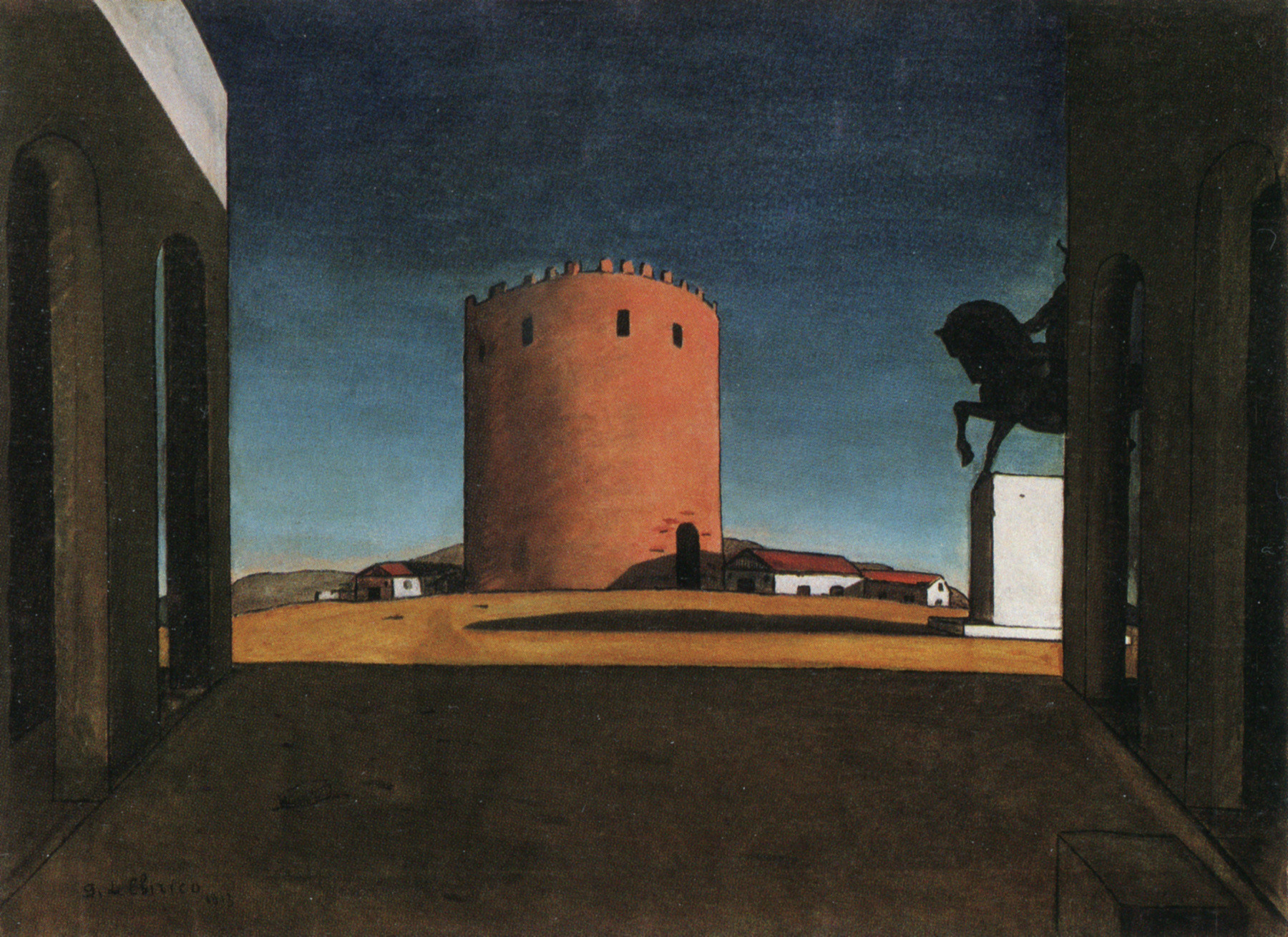
Такова перегонка объективной реальности в художественную. Разумеется, в те же годы задумались и об обратном процессе. Господин Хинтикк дал любопытную дефиницую: "Возможные миры — это вероятное положение дел по отношению к субъекту, находящемуся в мире реальном и который свое реальное «я» проецирует в иные мыслительные пространства". А господин Льюис утверждал, что любой возможный мир является объективной реальностью для тех, кто находится внутри него.
Теперь перейдем к нашей домашней заготовке. К рассказу Акутагавы «В чаще». У нас есть некая линейная дорога, выложенная объективными событиями. В рамках пространства данного текста мы можем авторитетно утверждать, что действительно самурай и его жена встретили разбойника. Разбойник действительно заманил их в чащу (увел от наблюдателя, даже от читателя), действительно связал самурая и изнасиловал его жену. А дальше реальность расслаивается, и мы получаем три более-менее равноценных развилки. Они одинаково вероятны и логичны внутри этого мира.
Если бы он связал жену и изнасиловал самурая, то мы бы почувствовали какой-то подвох (и как мы впоследствии увидим на примере Кинга, сама система взбрыкнула бы), а так все укладывается в схему, в логику мира и персонажей. Остается только решить вопрос, кто убил самурая: бандит, жена или он сам?
Однако, кому адресован этот вопрос? Он адресован читателю. Читатель вправе выбрать одну из трех концовок и считать ее правильной. Это зависит от личных предпочтений, от отношения к персонажам, от моральных и эстетических установок. Однако, почему я думаю, что этот рассказ слабее, чем «Сомнение», — факт возникновения этой развилки подан прямолинейно и грубо. В реальности, даже художественной, мы не должны увидеть, что мир нагло разделяется на три альтернативные истории.

Есть два способа восстановить целостность раздробленной реальности рассказа «В чаще». Сомнительный и вообще сомнительный. Первый вариант — принять точку зрения самурая. Списать произошедшее на самоубийство со всеми сопутствующими обстоятельствами. В этом случае мы более-менее можем понять, почему разбойник выдумывает легенду о благородном поединке, а жена, уже немного поехавшая головой, исповедуется, возлагая вину за смерть на себя. Можно подтасовать факты и доказать объективность истории жены или бандита, но, мне кажется, это будет сложнее с точки зрения проверки на фальсификацию.
Второй вариант технически проще, но связан с вторжением демиурга. Надо создать четвертое объяснение, некое надсобытие, связующее разрозненные сюжетные линии воедино. Так поступили создатели экранизации. Был добавлен четвертый свидетель — дровосек.
"Действие снова возвращается к воротам Расёмон. Дровосек признается, что видел гораздо больше, чем сказал в суде. Фактически он видел и изнасилование и убийство. Он утверждает, что разбойник уговаривал женщину уйти с ним. Она согласилась при условии, что он убьёт мужа. Самурай не хочет драться, поражённый предательством жены. Разбойник тоже против бессмысленного убийства, он развязывает самурая, предлагая тому уйти. Но женщина провоцирует обоих, в результате происходит поединок на мечах, но совсем не так, как в рассказе разбойника: Тадзомару и самурай сражаются трусливо и неумело, в
Нельзя не упомянуть роман Фаулза «Червь». Там даже фабула похожая. Судья расследует исчезновение молодого дворянина, опрашивая его спутников, которые отделялись от группы на разных участках пути. Тоже формат допросов и протоколов. Однако там сравнительно линейное повествование и катарсическая концовка, которую можно лишь принять или отринуть. Выбор следующий: верить или нет. «В чаще» надо выбрать во что именно верить.

Вернемся к «Сомнению». Я считаю, что этот рассказ написан лучше и глубже. «В чаще» — это эксперимент, когнитивная игра смыслов, возможная лишь в художественном тексте. Интерактивность. Во втором рассказе выбор должен сделать прежде всего персонаж, а не читатель. Почти обезумевший человек не может понять: убил ли он жену из жалости или из корысти, мог ли он ее спасти или только облегчить боль, действовал ли он осознанно или в аффекте? И этот выбор — принципиальный. Если «В чаще» мы остановимся на версии жены, а не самурая — ничего принципиального не случится. Здесь же от этого выбора зависит то, рухнет ли мир для вдовца или же он сможет как-то смириться с произошедшим. Этот выбор реально вписан в художественный мир и будет иметь реальные последствия. Это куда большее мастерство, чем просто разложить варианты концовки, как в компьютерной игре.
Характерно, что многие рассказы, допускающие несколько концовок, стилизованы под детективное расследование. Во-первых, это приближено к реальности: мы чувствуем себя в роли следователя, которому предстоит решить, кто прав, а кто виноват, в условиях недостаточной фактуры. Во-вторых, это побуждает нас жаждать истины. Кульминация «Червя» раскрывает этот мотив наиболее полно:
" — Говорите одну только правду. И не бойтесь: он лишь с виду такой.
— Я и говорила правду, и дальше от нее не отступлю. Ни в едином слове.
— Эх, сударыня, правда правде рознь. Одно дело — то, что вы за правду почитаете, и совсем другое — правда истинная. От вас мы полагаем услышать первую, но
— Буду говорить, как думаю".
Да, мы доискиваемся второй правды, не частной точки зрения, а истины. Объективной истины для данного возможного мира. Мы же не хотим, чтобы мир вдруг оказался случайным? Чтобы вдруг выяснилось, что это «недопустимая позиция», как торжественно объявил Лужин? Нам свойственно искать эту истину. Оправдывать трещащий по швам мир. Мы скорее поверим, что автор нас обманывает и
Хронологически, рассказ Акутагавы — удачная находка плюс восточное мировосприятие. Скорее всего, ему не доставало инструментов и наработок построения текста, которые накопили модерн, постмодерн, сюр и прочие. Чтобы провернуть такое в 1922 надо было обладать интуицией, но сознательно использовать это построение для направленного удара по читателю — вряд ли. На эту идею он наткнулся в «Сомнении» (1919), но вывернул ее в сторону чисто лингвистической, умозрительной игры в «Чаще» (1922), что выглядит регрессом, а не продвижением вперед.
На тот момент Акутагава мог стремиться показать саму возможность существования нескольких альтернативных пластов реальности. Фаулз использовал этот метод в романе о правдоискательстве и полифонии. А Фриш в гениальной работе «Штиллер» показал, как можно убегать в эти реальности, выявил в них потенциал для эскапизма. И к «Штиллеру» прибавьте еще «Отчаяние» Набокова, но там не в полную силу.

Компьютерные игры с их возможностями и художественными наработками постмодерна — это уже ризома или фракталы. Постмодерн превратил текст в мультивселенную. Потому что любое постмодернистское произведение связано с другими текстами, другими вселенными. Эдакий струнный рассказ, пронзающий всю литературу сквозь Гомера, Рабле, Достоевского и Камю. Смешайте литературу, каббалу, герменевтику и семиологию и вы получите водородную бомбу. А если добавить реализацию на уровне очков виртуальной реальности, вселения в аватара в компьютерном мире…
У Кинга есть офигительный рассказ — «Последнее дело Амни». Все начинается, как дешевый роман в стиле нуар. Есть полуопустившийся частный детектив, городишко времен сухого закона и привычная рутина.
Но в один момент Амни видит, что мир вокруг него сходит с ума. Все неправильно. Неожиданно он осознает, что привык к цикличному времени и возвращению к
Они меняются местами. Писатель становится детективом в комфортном мифологическом мирке, а Амни выброшен в наш (наш?) реальный мир, оказавшись в теле лишайного писателя-неудачника. Несколько месяцев Амни страдает в огромном «реальном» мире, подумывает о суициде. И наконец, начинает писать свой роман. В котором уже он как автор расправляется с писателем и возвращается в свой мирок.

Что нам важно в этом рассказе? Два момента. Взаимодействие нескольких уровней художественной реальности. Выдуманный герой (писатель — всего лишь персонаж Кинга) выдумывает своего героя. Амни — это виртуальность в квадрате, виртуальность даже по меркам обитателей несуществующего мира. Второе, мы видим, что даже художественная реальность вынуждена функционировать по определенным законам. В ней необязательно будут гравитация или ограничение в виде скорости света, но она не может превратиться в бессмысленный шизофреничный поток сознания. В чистый бред. Если бы мы, условно, были персонажами грандиозного (по нашим местным меркам) романа, то можно утверждать, что наш Бог (автор) — талантливый чувак. А если бы наш мир описал графоман, то мы (персонажи внутри) первыми бы заметили, что что-то в корне неправильное происходит. Сбой матрицы.
К сожалению, всякий человек профессионально работающий с текстами, рано или поздно утыкается в вопрос об объективности реальности. Благо, что все деконструкторские наработки постмодерна могут успешно применяться и против того пространства, в котором мы живем. Наши мысли, наша речь, наш метод обработки информации — текст. Это наиболее универсальный способ записи и фиксации всего происходящего. И наше сознание может быть обмануто. Как минимум, человек не всегда различает реальность и сон. Галлюцинации, психосоматические боли и агнозии — тоже реальны.

Поэтому, друзья мои, напоследок я дам вам несколько советов, как понять, в какой реальности вы находитесь: внутри текста или хотя бы снаружи?
1) Адекватность реальности должна подтверждаться коллективными усилиями. Чем больше людей-персонажей разделяют с вами реальность, тем сильнее верификация. Чем безумнее, экстремальнее и неадекватнее поведение окружающих или события, тем больше вероятность, что вы в тексте.
2) Физический мир ограничен — литературный безграничен. Если вы стали свидетелем чудес, паранормальных явлений или даже слишком гладкого воплощения архетипичности в окружающих, то вы попали в текст.
3) В литературной реальности персонажи появляются из ниоткуда и при этом сразу несут сюжетную нагрузку. К любым незнакомцам следует относиться настороженно. Если они обладают долей всезнания, либо как-то иначе проваливаются по верификации реальности, то это очень плохо. А если окажется, что это ваша школьная любовь, потерянный брат-близнец или просто знакомый знакомого, ворвавшийся в вашу жизнь фатальным образом, да еще с синхронией, то все это попахивает текстом.
4) Последний критерий — пустота. В реальности пустота и лакуны существуют. В тексте всякая история может быть понята и воспринята во всей полноте. Перед нами раскроются человеческие драмы, подоплека событий, пробелы туманного прошлого неожиданно рассеиваются, истина торжествует. Да, если истина торжествует — то кранты. Это текст.
Идите, проверяйте. На сегодня все.
