Сергей Сдобнов. Северная поэзия
Что мы знаем о культуре Швеции, Норвегии, Дании? Кто был после Августа Стриндберга или Ингмара Бергмана? Сегодня каждый студент ещё помнит «Малыша и Карлсона» Астрид Линдгрен, но имена и тексты поэтов «северных стран» ему неизвестны и часто недоступны. Сергей Сдобнов специально для L5 поговорил с переводчиками и поэтами — Алёшей Прокопьевым, Дмитрием Воробьёвым и Ниной Ставрогиной о «северной поэзии» и представить нескольких важных поэтов, переведенных на русский язык.
Разговор о «северной поэзии» для меня как читателя начинается с Тумаса Транстрёмера.
Алёша Прокопьев о Тумасе Транстрёмере и Ингер Кристенсен.
Тумас Транстрёмер (Tomas Gösta Tranströmer; 1931— 2015). Врач-психолог, работавший в тюрьме для несовершеннолетних, талантливый пианист, наполовину парализованный после инсульта в 1990 году и научившийся играть и писать только левой рукой. Свой богатый жизненный опыт Транстрёмер отразил в 12 книгах стихов и прозы. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 2011 год.
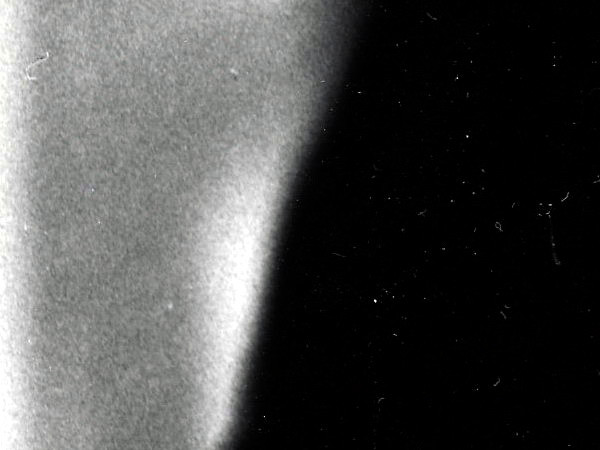
— Алёша, ты лично знал Транстрёмера и перевёл многие его тексты. В 2012 году в России вышли все тексты Транстрёмера в переводах Александры Афиногеновой и твоих. Как ты можешь объяснить решение Нобелевского комитета? На какие особенности поэзии Транстрёмера читателю стоит обратить свое первое внимание?
— Мы с Сашей начали переводить его задолго до Нобелевской. Понятно, что это важное событие, но оно просто лишний раз подтвердило значимость его поэтики, преодолевшую известную шведскую щепетильность — присуждать премию «своим» считается не очень правильным, — но с момента последнего награждения соплеменников прошло уже всё-таки больше сорока лет. Молодцы, шведские академики, не опоздали, ведь Тумаса вскоре не стало (а вот в случае с Астрид Линдгрен или Ингер Кристенсен они совсем не молодцы!). Стихи Тумаса ¬– чудо, просто и без прикрас приоткрывающее покров с незримого. Говорю эту фразу и чувствую, что она ничего не объясняет. Попробую так. Искусство это ведь не слепок ни с чего. Соответственно, в любом произведении, на что намекает само слово про-из-ведение, есть некоторое смещение. Оно есть всегда. Так вот в стихах Тумаса это смещение проводится настолько тонко, что начинает проступать прозрачность всех вещей и понятий. Я бы посоветовал читателю обращать внимание на глаголы движения и покоя, на их соотношение и место в композиции стиха. Возможно, что-то станет виднее. Хотя он ясный, как мне кажется, на чуть ли не любом уровне. Темноты начинаются, когда доходишь до высот его, либо до оснований, лежащих на большой глубине.
МЕДЛЕННАЯ МУЗЫКА
Здание закрыто. Солнце проникает через окна,
нагревая столешницы,
достаточно прочные, чтобы вынести тяжесть человеческих судеб.
Мы сегодня гуляем — на длинном просторном склоне.
Многие в тёмном. Можно стоять на солнце закрыв глаза
и чувствовать, как тебя медленно несёт ветром.
Я слишком редко подхожу к воде. Но сейчас я здесь,
среди валунов — их безмятежных спин.
Валунов, которые вышли когда-то из моря медленно пятясь.
— Как в северных странах относятся к поэзии своих авторов и переводам?
— Не знаю, как в Дании, но в Швеции, например, имеет место культ Транстрёмера среди образованной публики, при этом — любят и ценят и других поэтов. Что касается переводов, то вот только один переводчик, мой друг Микаэль Нюдаль переводит Велимира Хлебникова, Ольгу Седакову и Геннадия Айги. Ясно, что переводят всё самое интересное со всех языков мира, это обычная нормальная практика.
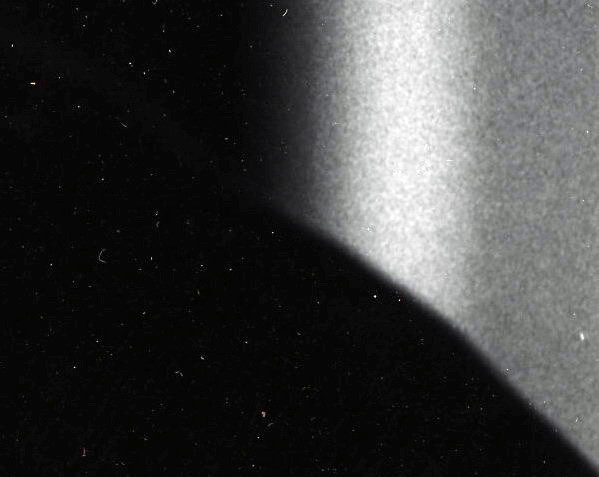
— Алёша, недавно вышла книга Ингер Кристенсен. Почему ты решил сделать книгу именно этого поэта?
— Её стихов не было на русском до самого последнего времени, и мне стало обидно. Кристенсен — фигура в Дании, равнозначная Транстрёмеру в Швеции. На одном этом примере можно увидеть, как резко отличается переводческая стратегия в нашей стране, по крайней мере, отличалась до последнего времени, от того, что делается в литературе европейских стран. Лично для меня важно ещё, что она родилась в один год с моей мамой, которую я боготворю (и ушли они от нас примерно в одно время). Это как если бы я переводил стихи своей мамы, которая, будучи родом из простой чувашской крестьянской семьи, никаких стихов, конечно, не писала.
Ингер Кристенсен Inger Christensen (1935–2009) — датская писательница, внесла вклад в развитие так называемой «систематической поэзии» (дат. systemdigtning), построенной на соответствии избранной поэтической формы какому-либо предзаданному структурному принципу (алфавиту, числам Фибоначчи и т. п.). В начале творчества ориентировалась на французский сюрреализм, придав ему собственную огранку. Кристенсен зрелой фазы творчества нашла собственный поэтический язык, выделяющий её не только из поколения, но и среди других авторов, искавших новые пути для поэзии во второй половине 20 века. Автор множества эссе, романов и книг для детей.

ЗАГОВОР
Бухта до боли синяя.
Победа нам обеспечена.
Камни каменные. Тебя тут нет.
+
ВОДЯНАЯ КОРКА
Водяная корка
режет сама себя
льдом
Зимняя лодка
cтрашна
на суше
Под кожей
защищается
сердце
В текстах Кристенсен можно заметить многие черты «северной» литературы — герметичность, взаимопроникновение элементов мира и текста, постоянная связь текста с касанием, чувство отсутствия и присутствия объекта или его части. В этой поэзии мало вопросов, но много наблюдений, с чем такие стихи можно сопоставить в русском языке?
В ДИКОМ ОДИНОЧЕСТВЕ ГОР
В диком одиночестве гор
натягиваю хвойное одеяло
на себя. Мрак ощетинившись на краю
немедленно
впивается иглами
неизведанное во мне
открывая открывая
Но не печальтесь обо мне
не печальтесь что я оставила вас одних
в вашем хождении туда-сюда
Моё время заржавело
Мои стихи сошли
с вашей протоптанной муравьиной тропы
Не печальтесь Глубже целует
жизнь моё юное стихотворение
Насмерть ползает оно по мне
подо мной и через меня
Стихотворение убитая надежда
Из этого стихотворения ясно видно, что всё перечисленное тобой не сразу нашло признание и в Дании. У нас это не с чем сопоставить. Лишь сравнительно недавно молодые поэты стали писать с такой же свободой. А что это значит? Это значит, что человек «пишет собой». Или, лучше, «пишет себя», создаёт себя своим письмом. Создаёт себя и — тем самым — пишет. Тут нет логического вытекания одного из другого, причинно-следственной связи, пресловутых «курицы и яйца», а есть всё сразу, одномоментно.
— Мне кажется, что поэзия «северных стран» связана с местом ментального обитания поэта. Ощущение больших и часто пустых пространств, другая коммуникация или я излишне мифологизирую?
— Что-то такое несомненно есть. Не зря же Рильке был очарован скандинавской литературой. А ведь у него угол зрения был точно другим, нежели у нас. Но и впадать в крайности я бы не стал. Поэзия — едина. Причём — так, как едина, например, наука. Неважно ведь в конечном счёте, кто совершил очередное физическое открытие (это интересно лишь историкам). В конечном счёте Вавилон языков преодолевается этим единством. Отмечу только одну деталь, которая представляется мне крайне важной в «северной» поэзии, она не «болтлива». И она очень тактильна, учитывает направления, а не только ритм: верх, низ, север, юг, как моряки учитывают направление ветра. Температуру, угол наклона и прочие вещи, которые нам кажутся (казались) излишними. Пожалуй, Парщиков что-то такое стал первым нащупывать в своих стихах. Но, понятно, делал это очень по-своему. Так что сравнение очень условное. Надо помнить, что первой книжкой Кристенсен мы с Михаилом Горбуновым, переводчиком её своеобразных эссе, сделали только первый шаг в направлении к русскому читателю. Основные поэтические тексты ещё не переведены. Всё впереди."

Нина Ставрогина о Туре Ульвене и Карин Бойе.
— Нина, как началась твоя история с переводами Тура Ульвена?
— Я впервые услышала о нём в июле 2007 г., попав на летние языковые курсы в норвежском городе Кристиансанне. На занятии, посвящённом современной норвежской литературе, нам рассказали о Туре Ульвене как о наиболее значительном послевоенном поэте Норвегии и дали прочитать два стихотворения: «Я падаю и…» и «Сад в атриуме, прохладные колоннады…». Те мои первые впечатления было сродни описанному в стихотворении «Читаю Стагнелиуса…»: «беспросветная радость» узнавания, чувство «подземной общности» с ещё едва знакомым, но уже важным для меня поэтом. Я тогда подумала: вот в чём смысл моего приезда сюда, вот зачем я, оказывается, учила норвежский язык, — чтобы прочитать Тура Ульвена. Уже дома я изучила всё, что было доступно в Интернете (то есть не так много), потом заказала полное собрание стихотворений, которое сначала просто прочла от корки до корки, подписывая каждое незнакомое слово, а потом много раз перечитывала, целиком и выборочно. Я была буквально одержима этой поэзией, и впоследствии эта одержимость то несколько отступала, то обострялась с новой силой. В одно из очередных таких обострений и появились первые переводы: отчасти из желания поделиться всем этим с другими, отчасти как попытка вступить в диалог, в реальности заведомо невозможный. Перевод поэзии всегда казался мне чем-то вроде общения с переводимым автором, может быть, даже чем-то наподобие спиритического сеанса — в переносном смысле, разумеется.

Тур Ульвен — выдающийся норвежский писатель второй половины XX века. Родился 14 ноября 1953 года в пригороде Осло, где прожил всю жизнь почти безвыездно. В юности серьёзно увлекался сюрреализмом, что нашло отражение в дебютном сборнике стихотворений «Тень первоптицы» (Skyggen av Urfuglen, 1977). Впоследствии от сюрреализма отошёл и протестовал против определения своего творчества как сюрреалистического. Критически относясь к государственной образовательной системе, формально получил только сертификат машиниста башенного крана, однако был чрезвычайно эрудированным человеком. Самостоятельно выучил несколько европейских языков, перевёл на норвежский язык стихи Рене Шара и рассказы Сэмюэля Беккета. Вёл уединённый образ жизни, не посещал литературных мероприятий, дал только одно интервью. 18 мая 1995 года Тур Ульвен покончил с собой.
ИЗ СБОРНИКА «ТОЧКА ИСЧЕЗНОВЕНИЯ» (FORSVINNINGSPUNKT, 1981)
Пытаюсь писать быстрее
исчезновения,
что движется
сквозь меня.
Как же.
Меня заснеживают
заживо. Солнце
крохотно, но
всеядно.
Я слишком
слабо вижу,
чтобы
выжить.
***
В музыке Моцарта
проступают
тёмные пятна,
приметы болезни,
разрастаются
в чёрный рот, приоткрытый,
но не
поющий.
Пастушка
в пышном жабо
сгущается
в рёв.
12.6.1983
— Первая ассоциация после чтения Ульвена — Целан.
— Действительно, ассоциация очевидная — и вполне оправданная. Хотя скандинавские литературоведы и спорят о мере и характере этого влияния, его едва ли кто-нибудь станет отрицать полностью. (Правда, существует и такая точка зрения, согласно которой в поэзии Целана и Ульвена есть лишь ряд общих мотивов, а в эстетическом плане общего у них не так много). В интервью Ульвен среди авторов, сформировавших его как писателя, и сам называет Целана.
Уже общим местом, наверное, стало указывать на ту важную роль, которую в поэтике обоих играет молчание, и — в связи с этим — на пристрастие обоих к эллиптическим конструкциям. Кроме того, часто обращают внимание, например, на постоянное использование обоими поэтами местоимения «ты» (которое одинаково пишется по-немецки и
— Что помогло тебе понять и принять «северную поэзию»? Чувствуешь ли ты какие-то параллели текстов Ульвена и других видов искусств?
— Я бы не сказала, что северная поэзия так разительно отличается от любой другой европейской, чтобы нужны были какие-то специфические предпосылки для того, чтобы понять и принять её. И тем более не возьмусь утверждать, что как-то особенно понимаю её как целое: меня интересуют скорее отдельные авторы. Провести параллели между творчеством Ульвена и западным искусством несложно. Он прекрасно разбирался в музыке, живописи, скульптуре — и не раз прямо обращается к ним в стихах. В его текстах упоминаются Бах, Моцарт, Вагнер, Брамс, Прокофьев, Шостакович, Веберн, говорится об античном искусстве, натюрмортах 17–18 вв., картинах Марка Ротко и т.д., а также немного о кино. Некоторые стихи, по собственным словам поэта, представляют собой точные описания реальных полотен. В юности Ульвен увлекался скульптурой, рисунком и живописью, несколько его работ даже были показаны в Чикаго на Всемирной выставке сюрреализма. В тот же ранний — сюрреалистический — период был снят короткометражный любительский фильм «Человек с птичьим мозгом», где Ульвен выступил, кажется, сразу как режиссёр, сценарист и актёр. Кроме того, он очень любил музыку (особенно джаз и Брамса) и сам играл на губной гармошке, иногда присоединялся к джазовым музыкантам, выступавшим неподалёку от его дома в Орволле. Можно найти и структурное сходство поэзии Ульвена, например, с музыкой Веберна или скульптурами Джакометти: сочетание «простой», строгой формы и высочайшей смысловой концентрации. Или вот ещё высказывание из интервью: «Стихотворение — это нечто такое, что можно окинуть одним взглядом. Оно вплотную приближается к живописи». Действительно, самый длинный из известных поэтических текстов Ульвена (две страницы в издании карманного формата), «Турдусские острова» (1972), представляет собой исключение даже в контексте раннего творчества, для которого характерны более объёмные, многословные вещи. А вот в прозе зрелого периода Ульвен, напротив, даёт волю описательному началу.
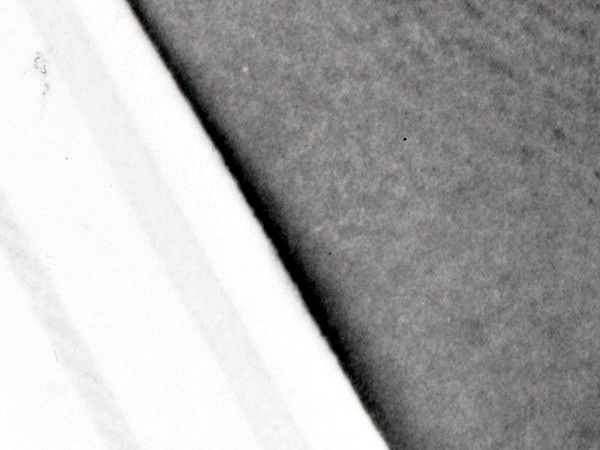
— Выберите один стих Ульвена и прокомментируйте его, как вы работали с оригиналом, и как бы вы могли рассказать об одном тексте поэта, если бы вам предложили описать этот текст как историю.
— Как справедливо сказано в одной рецензии на шведское издание избранных стихов Ульвена, речь у него чаще всего идет скорее о реальных или воображаемых процессах, чем о состояниях. Если говорить очень грубо и схематично, то можно выделить основные типы таких «процессов». Возможно, главный из них — исчезновение в разных своих ипостасях (растворение, выветривание, истлевание и т. д.). У исчезновения есть и обратная сторона — возникновение, становление; в одном стихотворении говорится: forsvinning er dannelse, т. е. «исчезновение — это образование/становление/формирование». С этой меркой можно подойти и к переводу: нужно в некотором смысле исчезнуть, чтобы дать другому, иноязычному, заново возникнуть; с другой стороны, оригинал, как бы меняя языковую оболочку, тоже исчезает, чтобы сформироваться в новом качестве. А для читателя оригинальный текст, к сожалению, подчас и вовсе исчезает, замещаясь переводом, особенно если речь идёт о редком языке.
Одним из наиболее показательных для творчества Ульвена в целом мне кажется первое стихотворение из цикла «Девятнадцать вариаций на тему Веберна» (1987), содержащее одно из самых цитируемых мест: Du drypper / og blir borte («Падаешь / и пропадаешь», буквально — «Ты капаешь / и пропадаешь/исчезаешь»). Человеческое соотнесено здесь с неодушевлённым — «общенечеловеческим», с «царством минералов», а «пять тысяч поколений» птиц — с мгновенностью падения капли: чрезвычайно характерный для Ульвена приём. Критики часто называли основной его темой «бренность», сам же поэт предпочитал «переживание времени». На примере этого текста очень хорошо видно и то, и другое. Исчезновение капли (и жизней птиц наверху) — и медленный рост сталактита, падение отдельной капли — и рождение звука: forsvinning er dannelse.
Характерное ульвеновское «ты» тут одновременно обобщает: некто, человек, любой, анонимный (ещё одно обычное для Ульвена слово) — и указывает на личное: «ты» — это ещё и отдельный слушатель со своим индивидуальным восприятием музыки Веберна, и «ты» как (лирическое) «я». Интересно сопоставить встречу этого «ты» и Антона Веберна со встречей целановского «ты» и «имени Осип» (которое тоже «подходит к тебе»). У Целана — чудо невозможной встречи, мистерия узнавания друг друга, у Ульвена, на первый взгляд, — неразличение живого и неживого, исчезновение. Но в то же время и собственная версия утопического качества искусства: индивидуальное имя, имя композитора, среди безымянных капель и сталактитов, можно интерпретировать и как некий залог смысла (грот, в котором ради образования сталактитов срываются капли, назван «мыслящим»). Этот смысл возможен, по Ульвену, как раз в искусстве, в литературе, которую он сравнивал с «оставлением следов». Мотив следов, оставляемых кем-то или чем-то знаков, будь то останки живых существ или результат многолетней работы воды и ветра, — один из центральных в поэзии Ульвена. Его второй сборник, ко времени выхода которого в 1980 г. поэт уже обрёл собственный неповторимый голос, так и называется: «После нас, знаки».
Едва ли у меня получится сформулировать какие-то определённые принципы, которых я придерживалась при переводе текстов Ульвена. Всё-таки во многом это процесс интуитивный. Главным было, пожалуй, попытаться сохранить то предельное сгущение смысла, что присуще его поэзии, — при максимальной строгости, лаконичности формы. Постараться избежать всего лишнего, громоздкого, неточного. Я в восторге от определения, данного им идеальному художественному языку: «Язык, который пышет жаром, но притворяется, будто лежит под холодным огнеупорным стеклом». Мне хотелось сохранить этот баланс внешней холодности и внутреннего жара: в выборе слов, в особенностях ритмики. Если удалось дать в переводах хотя бы некоторое представление об оригиналах, то это уже хоть что-то.
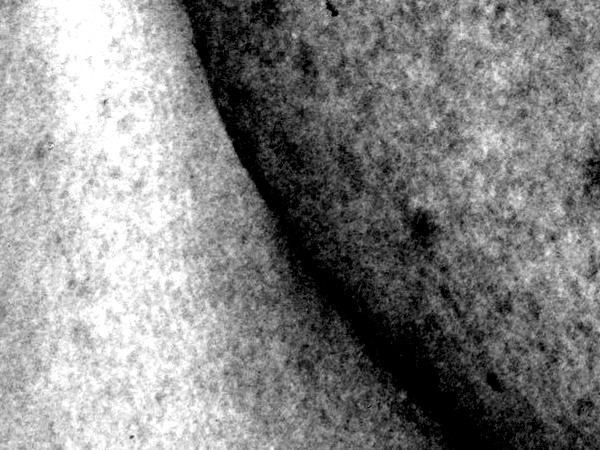
Карин Бойе родилась 26 октября 1900 г. в Гётеборге. Сочинять начала очень рано, многие её детские и юношеские стихи и пьесы сохранились до наших дней. После окончания школы поступила в Упсальский университет, где изучала греческий язык и скандинавскую литературу. Испытала влияние Редьярда Киплинга, Фридриха Ницше, древнескандинавского эпоса. Ещё студенткой вступила в социалистический кружок «Кларте», активным членом которого оставалась много лет. Дебютировала сборником «Облака» (Moln, 1920), однако известность ей принесли две последующих книги стихов: «Сокрытые края» (Gömda land, 1924) и «Очаги» (Härdarna, 1927). Впоследствии стала писать и прозу. Особенно знаменит её роман-антиутопия «Каллокаин» (1940), созданный во многом под впечатлением от посещения СССР и нацистской Германии в 1930-е гг. Очень болезненно переживая происходящее в мире, с одной стороны, и находясь в крайне тяжёлой личной ситуации — с другой, Карин покончила с собой в ночь на 24 апреля 1941 г.
ИЗ КНИГИ «СОКРЫТЫЕ КРАЯ» (GÖMDA LAND, 1924)
ВОИТЕЛЬНИЦА
Мне чудился меч в эту ночь
и воинский клич — в эту ночь.
Что рядом с тобой я шагаю в бой,
виделось в ночь мне, в ночь.
В руке твоей вспыхнувший луч –
и тролль пал к ногам твоим.
Сомкнув ряды, отряд наш пел,
чтоб тьму разогнать, как дым.
Чудилась кровь мне в ночь,
чудилась смерть мне в ночь,
снилось мне, будто пала
рядом с тобою — в ночь.
Не видя, что друг убит,
сжав плотно строгий рот,
уверенно держа свой щит,
ты молча шла вперёд.
Чудился огнь мне в ночь,
чудились розы в ночь…
Лёгкой и светлой — смерть.
чудилась в ночь мне, в ночь.
ИЗ КНИГИ «ОЧАГИ» (HÄRDARNA, 1927)
ВО ТЬМЕ
Во тьму вперив бессонный взгляд,
я молча слушаю набат.
Он ровен, тяжек, гулок так,
что кажется — то дышит мрак.
Мир оглушённый ввергнув в сон,
с вещей срывает маски он.
О мерный, тяжкий, гулкий бой,
мой разум одержим тобой.
Среди бесплотных — тоже — дух,
я сохранила только слух –
и слушать сердце тьмы должна:
заря назавтра — не страшна,
заря назавтра — не нужна.

— Нина, расскажи о восприятии Карин Бойе в начале 20 века. Как поэта воспринимали на родине? Кажется, стихи Бойе переводила уже Анна Ахматова?
— В шведской поэзии первой половины XX в. Карин Бойе по праву считалась одной из ключевых фигур. Её причисляют к так называемой второй волне шведского модернизма. В числе авторов, так или иначе испытавших её влияние, — такие поэты, как, например, Харри Мартинссон и Гуннар Экелёф (в свою очередь, кстати, повлиявший на Тура Ульвена). Её и сегодня любят и читают в Швеции, всячески увековечивают память о ней. Существует Общество Карин Бойе, установлены памятники в Стокгольме и Гётеборге, а упсальская университетская библиотека, главному зданию которой она когда-то посвятила стихотворение, названа её именем. Ахматова, насколько я знаю, Бойе не переводила. Но перевела стихотворение норвежки Ингер Хагеруп, посвящённое памяти Карин. Кстати, многие современники откликнулись на эту смерть стихами. Самое известное посвящение — «Мёртвая амазонка» Яльмара Гулльберга, написанное в апреле 1941 г. В нём самоубийство Бойе уподоблено, с одной стороны, героическому поражению спартанцев под предводительством Леонида, а с другой — гибели греков, погибших при Фермопилах в боях с гитлеровскими войсками в тот же день, когда умерла Карин Бойе. В моём переводе последняя строфа звучит так: «Не один ещё жизнь отдаст за / Фермопилы, что значит — дух. / Вместе с греками в Орк нисходит, / В этот день, принята в их круг, — / Большеглаза, черноволоса, — / Их сестра, павший в битве друг».
— Расстояние от начала одного века до начала века другого и многочисленные изменения «образа поэзии» — делают ли они тексты Бойе для современного читателя слишком похожими на опыты Серебряного века и письмо, возможное до Малларме?
— Безусловно, с чисто типологической точки зрения творчество Карин Бойе вполне вписывается в контекст европейского поэтического модернизма. Однако это, на мой взгляд, ещё не делает её на

Дмитрий Воробьёв о Кристиане Лундберге и Гуннаре Вэрнессе.
Кристиан Лундберг (Kristian Lundberg, род. в 1966 г.) — шведский поэт и прозаик. Родился и живёт в городе Мальмё. В конце восьмидесятых годов прошлого века был членом поэтической группировки «Мальмёлига», из которой в последствии вышли известные поэты и сценаристы самых разных направлений. Автор 22 книг: сборники стихов, 2 романа и книга о поэтике. Публиковал также многочисленные критические статьи о современной литературе в шведских газетах; приостановил занятия критикой в 2006 г. после того, как одна из его рецензий оказалась написана на несуществующую книгу.
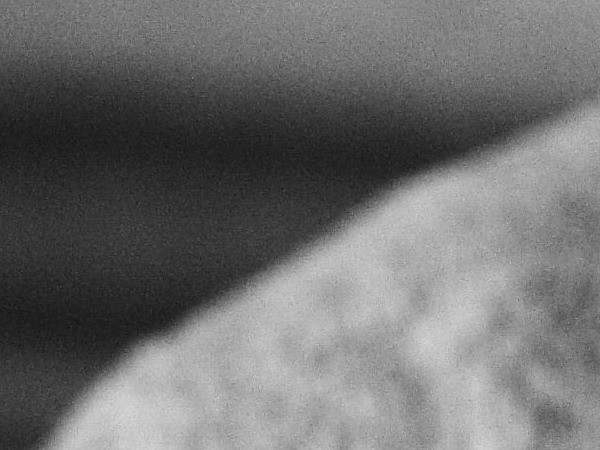
— Дмитрий, вы переводите Кристиана Лундберга. Сейчас, на русском языке опубликован фрагмент из его повести «Ярден» Читатель столкнется с существованием одного из многих бесправных рабочих, сотрудничающих с «кадровым агентством». Эти рабочие официально устроены в аутсорсинговом агентстве, а фактически работают на разных промпредприятиях, с почасовой оплатой и без социальных гарантий, положенных штатным рабочим промпредприятий. Эта повесть связана с реальной ситуацией в Швеции?
— Да, связана. Подобные «формы трудоустройства» появились в Швеции относительно недавно. На новоязе это называется «лизинг персонала». Но книга, конечно же, не только о бесправном положении современных рабочих-мигрантов, она очень личная. Своеобразный дневник поэта, наблюдающего за жизнью на социальном дне. Книга цепляет не своим языком, (который нарочито прост, если не примитивен), и не своим социальным пафосом, а своей откровенностью. Автор говорит о вещах, о которых большинство шведов не захотело бы распространяться. О злоупотреблении алкоголем и наркотиками в бурной юности; о нищете; о шизофрении матери, которая началась, когда автору было 10 лет; о предательстве отца, который оставил обезумевшую жену с четырьмя детьми и т. д. Кристиан Лундберг в Швеции был более известен как лирический поэт, который дебютировал в самом конце 1980 годов, как литературный критик. Но после того, как написал отрицательную рецензию на несуществующую книгу, он потерял источники средств к существованию и вынужден был, в конечном итоге, стать разнорабочим. Повесть «Ярден» сделала его известным «левым» прозаиком. Последовавшие за этой повестью книги прозы «И всё будет любовь», «Родной город» закрепили за ним репутацию писателя, говорящего о проблемах современных неимущих и отверженных в благополучной Швеции. Литературные критики увидели в книге «Ярден» новый виток развития т. н. «рабочей литературы». За эту книгу Лундберг получил несколько престижных наград.
ИЗ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ПОВЕСТИ «ЯРДЕН»
Это могло быть утро любого дня. Понедельника или воскресенья. Вторника или четверга. Дни похожи друг на друга. Сливаются в один. Ночи слишком коротки. Я устал; ничего удивительного. Тело болит. Исхудал за короткое время; знакомые говорят, что я постройнел, друзья спрашивают: давно болеешь? Ночами повторяются сны. То за мной гоняются, меня преследуют. То должен срочно вымыть машины и не успеваю, то во время парковки в блоке С они врезаются друг в друга; бамперы вдребезги. Абсурдные сны. И всё же не совсем. Они говорят о моей жизни. О
Последние восемь ночей я работаю на транспортере, сортирую грузы за сдельную почасовую оплату. Сплю несколько часов по утрам. Смена начинается в полночь и заканчивается в восемь. Ящики с грузом весят до сорока кило и должны быть переложены на движущуюся ленту. За восемь часов я перекладываю с тележки на ленту шесть тысяч ящиков. Нас двое, по одному на каждую сторону ленты. Другие рабочие меняются местами: часок покидали ящики, потом перешли на автокары, сканировать штрих-коды или что другое. Но нас, подёнщиков, это не касается. Мы не сходим с места. Час за часом. В теле постоянная рабочая усталость. Я сплю с полдевятого до двух. Я придавлен к миру невидимым грузом. И не могу освободиться. Хочется сбросить его, но он держит меня всё крепче и крепче.
На той стороне ленты сменился работник. На его месте побывало уже четыре человека. На работе неприятная атмосфера. Я знаю, что занял место другого; своим появлением здесь, своей готовностью на любую работу, я сместил штатника, который вдруг стал лишним. Товарищем по работе.
***
Почти год я кормился почасовой работой. Подёнщик. Это тот, кто появляется и исчезает — имя которого можно не запоминать — как эфемерный призрак, запасной винтик, пружинка, которая всегда наготове. Фабрики. Склады. Парковки. Развалины, загаженные и поруганные. Мне знакомы эти огороженные территории. За минимальную плату я выполнял любую работу. За час мне платили около сотни крон. Если включать и отпускные, то 130 крон. Я думал, что работа должна озолотить меня, и потому не стремился вернуться на прежние работы, я стремился восстановить свое социальное положение. Я не прятался за слова, не прятался за мысль, что это всё случайно. Что я здесь нахожусь для того, чтобы описать происходящее. Нет, я здесь потому, что я — есть я; и это скопление и последствия ряда решений, которые я не мог предвидеть.
Я делаю это потому, что способен только на это; работать физически. Что создает человека?
Часто мысль спотыкается: что создает человека? Я не знаю ответа. Иногда думаю, что способность выбирать доброе создает человека. А в иной раз, я сам не верю, что существует некое добро. Что от нас, от т.н. «человеков», требуется? И всё чаще я думаю, что от нас требуется создать условия, чтобы люди избрали это доброе, если бы захотели. У голодающего нет этих условий. У боящегося потерять свою работу также нет этих условий. Это превращает нас в нелюдей. Вот этим пользуется система. Применяет нас.
Мы похожи друг на друга, как все люди; везде и всюду попытки творения добра и зла происходят под давлением и готовы взорваться — на фабриках, складах, парковках. Мы так живём. Под прессом насилия, в этом процессе разрушения, которое всё быстрее отдаляет нас от всего человеческого. Достоинство. Щедрость. Солидарность. Мы — люди. Мы работаем. Иногда мельком вспоминаешь строчки из библии, дистиллированный смысл которых утрачен за столетия страданий.

— Дмитрий, на сайте Полутона появилась книга Гуннара Вэрнесса. Расскажите о вашем участии в её создании.
— Гуннар Вэрнесс (Gunnar Wærness) — норвежский поэт, переводчик. Со-организатор и участник кабаре «Хлеб и Осёл». Автор 5 поэтических книг, составитель и редактор поэтической антологии «Мир, несуществующий на карте», которая удостоена премии ассоциации норвежских критиков за лучшую переводную книгу (2010). Лауреат премии Тарьея Весоса (1999), обладатель приза норвежской ассоциации производителей комиксов за лучший дебют (2008). Переводчик поэзии Е. Гуро, В. Хлебникова и Г. Айги на норвежский язык. Гуннар Вэрнесс в 2005 году впервые приехал в Чебоксары. С тех пор его стихи неоднократно переводились. Его переводили Алексей Сельницин, Мария Данова, Лидия Стародубцева, Микаэль Нюдаль, ну и я внёс свои пять копеек. Эти переводы выходили в разных журналах, малотиражных антологиях и «домотканых книжках», и по большому счёту оказались малодоступными. После того, как Мария Данова перевела текст графической поэмы Вэрнесса «Стань миром», у нас с издателем Микаэлем Нюдалем возникла идея подвести промежуточные итоги и собрать под одной обложкой все переводы Гуннара на русский. Так появилась книга «Стань миром и другие стихи», которая вышла в русскоязычной серии «Моль» шведского издательства «Ариель». Я помог отпечатать тираж книги в чебоксарской типографии, это уменьшило затраты издателя.

— Большая часть книги Вэрнесса — поэтический комикс. Как к этому жанру относятся на родине поэта? С чем можно этот жанр сравнить в русской поэзии? Позволяет ли формат комикса сохранять особенности поэтического текста?
— Насколько я понимаю, поэтический комикс — это такой жанр, который крайне нетипичен для норвежской поэзии, да и для русской тоже. Вероятно, дело в том, что Вэрнесс стремится переопределить поэтические конвенции, стремится к синкретизму, взаимодействию искусств. Поэтому соединяет стихи и изображения, «пропевает» графическую историю-комикс на фестивалях, аккомпанируя себе на мбире (мбира — это разновидность калимбы, «африканского ручного фортепиано»), играя роль «современного ведуна-пророка». «Стань миром» — это графическая поэма, поэма-коллаж, которую формально можно отнести к комиксу. В нём есть некая история, говорящие герои, «словесные пузыри». При этом каждый коллаж может быть рассмотрен как самостоятельное произведение, но и все вместе они представляют сложное целое. Дело в том, что поэтика Вэрнесса — это поэтика переосмысления первичного творческого акта (Книга бытия). Поэт включает читателя в мир происходящего прямо сейчас творения, где язык, человек, растения, животные не связаны привычными нам отношениями, находятся в иных связях и состояниях, где всё подвижно и текуче, фигура и фон равноправны, а объект переливается в субъект и обратно. Адам ещё не назвал вещи своими именами, поэтому они ещё не стали вещами. Язык ещё не стал человеческим и действует по собственной логике, не зная, что он вещь. Яблоко разговаривает с людьми, когда его ест человек, пока молитва молится о пришествии человека. Поэтому, думаю, комикс-коллаж не искажает особенности поэтики Вэрнесса, наоборот, делает их более зримыми.

— В журнале «Воздух» выходила подборка ваших переводов Вэрнесса. В этих стихах особенно заметна обращённость поэтов северных стран к «письму», «тексту», «слову» в своих поэтических практиках. Эта рефлексия связана с опытом сюрреализма или иными течениями поэзии?
— Я думаю, что это особенность поэтики Вэрнесса. А поэзия северных стран очень разнообразная. И конечно же, опыт сюрреализма не прошёл мимо Ульвена, Вэрнесса, Шёгрена, как и многих других. Другое дело, что нам кажутся важными и интересными те поэты, произведения которых, вероятно, содержат нечто, чего нам в своей поэзии не хватает. Но будет ли это нечто воспринято и освоено родной литературой — зависит не только от переводчиков.
(слова стоят)
слова стоят
в дверях длинные
как люди и говорят мы
не хотим спать
нас пугает то
что мы понимаем
когда карабкаемся
на небо что нам там делать
собираться на лице лежать
вокруг рта он не хочет говорить
своё имя, но хочет помнить чужие
и целовать нищету
в этом сером доме за серым столом
где братья камень и хлеб
Иметь и Не Иметь делят друг с другом
тепло тела
