Театральная музыка Александра Чернышкова
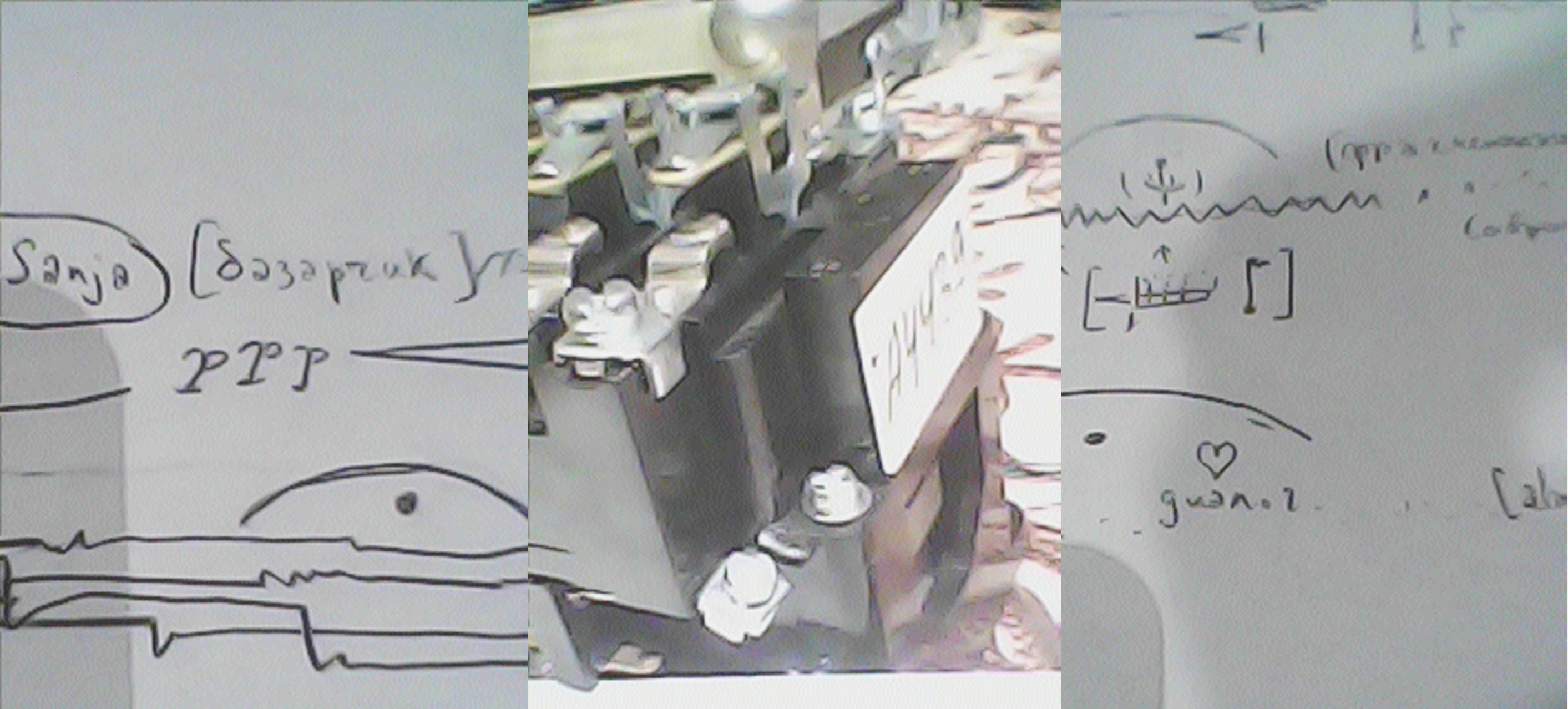
Введение
Когда-то давно Чернышков был одним из первых, кто знакомил меня с современной импровизацией. С двумя другими людьмы мы пришли на его лабораторию и смотрели отрывки из
Чернышков уехал из России вскоре после той лаборатории, его музыка играет на венецианских биеннале, судя по отзывам, он известен в мире как часть новой российской музыки, зарождавшейся в начале века в подобного рода маргинализированных исканиях и коллаборациях. Квартирники, концерты для десятка людей, произведения, написанные для дня рождения и конкретного исполнителя, класс в консерватории по импровизации для слабоухих, который позволялся молодым композиторам, чтобы они не разочаровались в альма матер, вслушивание в разницу между сильным и слабым ударами камней, треск разматывающегося через головы слушателей скотча, познание синусоидального звука и так далее и тому подобное были языковым полем, пространством, в котором происходило настоящее взаимодействие с музыкальным.
Несмотря на отсутствие внятной концептуализации этот поток вынес из себя людей, обладающих особым аппаратом внутренних камертонов. Такое умение различать кажущееся на иной вкус одинаковым или одинаково тривиальным, позволяет им создавать (на этом различении) музыку, ускользающую от предвзятого слушания, поскольку удивление вызывает уже то, что в прежде неразличимом происходит движение, действие.
Выход в музыкальное — это не банальности вроде «быть здесь и сейчас». Те, кто произносит эту фразу, обычно делают это, уже пережив это, уже перейдя грань события выхода/входа в присутствие в музыке. Этим они только фиксируют в расхожем слове отличие между обыденностью, бытом, в котором мы размазаны по сети транзакций, и аффектированным вглядыванием, вслушиванием в инобытийное.
Выход в музыкальное, которым владеет композитор или импровизатор — это усилие работы с фокусом восприятия, который направляется на принципиальный изъян в себе самом. Для того, чтобы играл камень или машина, вообще материя, необходимо играть каменность, машинность, материальность, а чтобы ее играть, необходимо оживить интуиции каменного, машинного, материального.
Импровизатор, меняющий скорость вращения моторчика, который не совершает своей прямой работы, а только шумит тише, выше или прерывнее, играет с мертвой куклой машины, оторванной от своего обычного места, так же как и сам импровизатор оторван от своего места, во взаимную пантомиму. Пытаясь стать машинкой (сознательно или нет), он делает машинку человечной и в переживании этого раз-отождествления себя с собой и одновременного единения с материалом работы начинает работать тот камертончик, о котором было сказано ранее.
Вовлекшись в эту взаимную пантомиму, импровизатор высветляет материю изнутри тем, что не находит в
И это уже не «здесь и сейчас» того пространства и времени, которое мы проживаем между концертами, но «здесь и сейчас» иного пространства и иного времени, которое прослеживается по иным линиям. «Ну что, случилось?» — спрашивает меня Чернышков после концерта. «По-моему, случилось» — отвечает он сам себе. «Я чувствовал наши ранние выступления сегодня, пока играл» — говорит Горлинский. Они имеют ввиду опыт другого рода, историю других событий.
Вчера прошел концерт музыки Александра Чернышкова в Электротеатре. Несколько пьес, написанных от двух до десяти лет назад, шли одна за другой, часто стыкуясь внахлыст, образуя новую единую композицию. Он работал с ритмом и мелодикой речевого, машинного, шумового, мимического, нарративного, бытового, настороженного, грустного, неказистого, мечтательного, смешного, мыслительного. Эксперименты в драматическом у театралов (к примеру, недавний «Гамлет» Ильи Козина), которые я наблюдал в том же зале, сильно проигрывают по цельности и содержат много необязательного, они как бы вихляются в неоформленном, неразмеченном, пытаясь найти основание для самого себя, что интересно, но иначе. Здесь же, несмотря на импровизационную составляющую, цельность присутствует как бы пред-заданно именно
Концерт
Когда событие одно из многих в череде, когда музыкант делает свою часть общего дела, которое начинается твоей утренней поездкой в метро на работу и продолжается наличием слушателя на его концерте, то атмосфера этого движения не содержит надежды на большее. Потому что оно воспринимается не в том времени и пространстве, в котором на самом деле существует, в котором на самом деле может существовать это большее. Проще говоря, для события необходимо отрицание прошлого, а не встраивание в него. Опыт по Гадамеру может быть только негативным.
Поэтому, находясь в зале, необходимо иметь в виду это основание, а не цепляться когтями рефлексий и ожиданий в свою жизнь, в музыкантов, в музыку, в зал. Приходя на концерт, необходимо подвиснуть в углу над залом и наблюдать отсутствие, в котором, как в темноте после света, начинают медленно проявляться размытые контуры иного связующего, нити, по которым бегут временные сгустки и разрежения, опутывающие людей в их созерцании. Пульсация этой темноты сродни ощущению сердцебиения в шуме закрытых ладонями ушей. Вслушиваясь в этот шум и неожиданно замечая в нем свое дыхание, смущаешься и удивляешься самому наличию своего пре-бывания.
Похожий переворот восприятия совершает Чернышков, препарируя речь и предметы — он обращает нас к интроспекции через внешнее — речь другого, звук машины, несуразность и потерянность предметов, играющих с нами во взаимную пантомиму. Вещи показывают нам нашу человечность.
Когда Чернышков сказал в рацию «выключай свет», мне даже почудилось, что он взмахнул руками, как волшебник. Мы погрузились под звуковое одеяло из вращений потухших прожекторов. Функция композитора — проливать тьму на суетное.
Когда достаточно изысканное, продуманное, интересное показывается слишком открытым, непосредственно честным, то на контрасте с тобой воспринимается как ошибка, как болезненная не необходимость.
В звучащем я вижу любование моментами контакта между людьми, театральность и наличие результата, который не ясен, но при этом улавливает слушателя в себе, в себя. Мы движемся из музыки, которая пронизывает наш быт, в нее же саму, но уже вынесенную на просвет тьмы.
Глаза Чернышкова, когда он смотрит на исполнение своей музыки, убитые уже давно безразличной тупой тоской. И радостные при улыбке.
Она сейчас шепчет на камеру не как обычно, в жизни она словообильная, формальная, здесь она играет очарованность, оцепенелость пустотой достаточно убедительно. Или, иначе, само пространство, которое построил композитор, играет ей.
Он закручивает на обломках недомысливаний, недопониманий, растерянных частей времени костер экзистенциального буйства. Обрывки нестыкущихся моментов жизни обрушиваются лавиной, захлестывают косноязычие. И это явлено в звуке, в музыке.
Игру транслируют на экран с помощью живой съемки. Экран появляется как доказательство присутствия, или наоборот, доказательство виртуальности происходящего, то есть в достаточной степени шизофреничен. Зрителю уже недостаточно видеть человека и слышать его, чтобы воспринимать его в полноте. Хочется показать с разных ракурсов, увидеть то, что обычно не видишь. Часть поверхности тел неестественно увеличивается на экране как в порнографии (по Павлу Тропинину), где недостижимый без виртуальности ракурс предстает доказательством раз-бирания-телесности. Вглядываясь в телесность виртуально, мы лишаемся ее, теряем ее. Сам концерт, приобретая большую видимую насыщенность, теряет свои онтологические основания нахождения именно в этом зале, с этими людьми. Когда мы снимаем себя и показываем себе, находясь в этом снимании, этим самым мы утверждаем, что более есть то, что кинематографично; иначе, если мы кинематографичны, то мы есть. Такая музыка, теряя связь с аутентичным присутствием музыкантов и слушателей, переключаясь на обслуживания онтологического статуса экрана пре-вращается из тьмы, проливающей себя на темное, в воронку одержимости, в которой темное в своем исчезновении становится загадочным и чаямым. Просвет здесь уже невозможен, потому что для него нету точки сборки. Экран поглощает все одержимостью.
Может быть, я не прав, и просто кино-Монти-Пайтон находится рядом с музыкой наряду с театром?
Я вижу здесь некоторое напряжение и неоноднозначность, потому что музыка и театр и кино как-то меняются, когда происходят в-месте. Если театральная часть здесь удивительно, но органична в общей музыкальной канве, то экран кажется взглядом на все это сверху, вбирающим в себя действие, принципиально меняющим его. Я пропустил дорожный знак на этом переходе к кино, и не ясно, был ли он. Воспринимать кино как музыку кажется мне неверным.
Лопасти механизмов проворачиваются, но не совершают предполагаемой работы, сотая доля процента ее идет в звук.
Мне очень понравилось, и сердце бьется сильно, и дыхание не улавливается.
И вот в этой тишине зал думает о произошедшем. Что было?
Хлопать долго не хочется, хлопки, возгласы и цветы после кажутся неуместными. Будто суета, старательно вытаскиваемая из себя, вновь возвращается на свое законное место, расправляет плечи.
Событие концерта остываает, постепенно обнажая новые связи между временем и предметами, событиями. Некоторые закрепились, некоторые ушли в тень. Связи продолжают держать в себе напряжение.
Загадка, которую Чернышков хочет нащупать, к которой подступается, не дает пищи, кроме знания о ее инаковости. И потому все сомнительно. Сомнителен я как слушатель, этот зал как зал из этого времени. Этот зал из того времени, когда я слушаю музыку, но не из того времени, когда я переживаю очередную жизненную перипетию. Это не музыка 2019 года, это музыка между лет, вдоль месяцев, огибающая течение дней и собирающая их. Как может, или как мы можем.
Последование
1
Эта музыка представляется мне растянутой между двух осей тканью. Костер обрывков повседневного сна и игра на мертвых куклах вещей.
Неживое не может быть мертвым? Я имею в виду то, что на концерте звучащие моторы не двигают грузы; гремящие подъемники поднимают людей, но люди занимаются жестом вместо труда; прожекторы скрипят меняя направление, но не горят.
Звук повседневности холоден. Если мы послушаем тот материал, с которым работает Чернышков, в его естественной среде обитания — гомон после концерта, то он покажется страшным. Он не начинается и не заканчивается, нам бесприютно в нем. В музыке же он иной, живой, но тем не менее он сохраняет холод.
Человек, смотрящий в материю и вдыхающий в нее себя, холодеет от ее движений, но при этом производит вихрь, в который закручиваются образы, несвершения, интуиции его времени.
2
Сейчас благодаря концерту я веду себя без готовых способов общения. На концерте я сижу, и у меня не за что зацепиться, и мои готовые формы ищут, откуда на происходящее можно смотреть. Я представляла, что этот зал собирается вместе и тоже так думает — где найти пристанище. Наверное, это никому не понравится, наверное, сейчас будет ужасный провал. И потом произошел спектакль, шарах и все, это возвращает тебя в момент настоящего, взрыв памперсов. Они отказались от любовных оберток, я поражена, какой у этой музыки потенциал менять мозги. Они показывали в сценках все то же, что происходит у них на кухне, как на самом деле, но удивительным, специальным образом.
3
[Зачем был нужен экран?]
Когда есть дополнительный ракурс, пространство насыщается любопытством. Любопытство — это установка на очарование новизной. Новизна есть несовпадение, побуждающее удовольствие. Удовольствие есть чудеса обетованные, то есть обещанные необъяснимой высшей силой бытия за незаконченную жизнь. Ты живешь, тебе за это обещано удовольствие. Т.е. экран нужен для удовольствия.
[Музыка тоже?]
Музыка нужна в том числе для того, чтобы случалось разочарование, которое, как правило, не нужно, но оно случается. Разочарование это остановка. Музыка это стекание страстей. Но в этом предложении слово страсть это уловка. Я не смогу передать смысл, могу лишь наметить его для другого человека. Страсть я понимаю как то, что позволяет живому чувствовать живое. Страсть не закрыта от бессловесности.
4
Удовольствие [или разочарование] назначается на роль настоящего связующего между людьми, но само по себе не может быть интересным. Удовольствие [и разочарование?] герметично, самозамкнуто, потому что это не связь, а иллюзия связи. Удовольствие — это иллюзия.
5
[У вас есть любимая песня?]
(первый) Алла Пугачева — Эти летние дожди
(второй) Алла Пугачева — В этом вся моя вина
(третий) Алла Пугачева — Приезжай
Пояснение о нерелевантности когнитивистики
Проблема не в узнавании (не)привычного, (не)известного, потому что если так — то нам остается лишь аморфное купание в не до конца сформировавшихся зародышах вещей и смыслов. Это купание имеет в последнее время тенденцию трактоваться как результат. Нету ничего плохого, чтобы узнавать известное (и без этого ничего не возможно). Соль в том, что мы узнаем. Я хотел бы узнать то, что я уже узнавал, но теперь не знаю. Но именно узнать, познать, а не просто пребывать в ничто.
Необходимо усилие другого рода. В эпоху постмодернизма это усилие слишком легко становится необязательным знаком, заметкой на полях трактата о поиске новых ощущений. Я не хотел бы новых ощущений на концерте или в жизни, я вообще не хотел бы связывать что-то, что есть, с когнитивистикой. Проблема не в восприятии, не в механизме восприятия или недостаточности алфавита для выражения. Проблема в необходимости усилия в ту сторону и в тех координатах, в которых мы практически ничего не делаем. И уже отсюда исходит и недостаток алфавита, и восприятие и так далее. Начиная же с последнего, мы превратно трактуем всю механику происходящего. Нам представляется, что проблема в неверных словесных или мыслительных или чувствительных па (или отказе от них). То есть мы просто дублируем онтологию машины, которой наполнен современный мир, в области бытия. Этим самым мы уже проиграли.
Поэтому современные попытки искусства освободиться от мира машин и виртуальности помещают нас в сновидения о несбывшемся и так и не оформившемся, в абортированный эмбриональный суп, который может произвести впечатление прорыва к истине, хотя это всего лишь прорыв к правде в смысле наличного положения вещей сегодня. Искусство же должно заниматься не срыванием покровов с онтологической мусорки, услаждая при этом обывательское желание быть понятым и открытым, а помещать вихрь реальности в ракурс нерелевантного, вторичного. Это помещение в более реальное, более существующее, но не лишающее человека ни его познавательной функции, ни разума, ни опыта как таковых.
