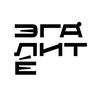«МЫ ОТЧАЯННО СТРЕМИМСЯ К УДОВОЛЬСТВИЮ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ЗНАЕМ, КОГДА НАМ В НЕМ ОТКАЖУТ»
Несмотря на всю справедливость левой критики в отношении капитализма и государства, большинство аргументов в пользу социализма зачастую сводятся к предложениям по улучшению уже существующей системы, т. е. сфер труда, производства и управления. Заменяя слепым «прогрессизмом» критическую оценку их природы, мы перестаем искать действительно радикальные способы их преодоления. С легкой руки Боба Блэка — американского писателя-анархиста, в середине 1990‑х гг. начавшего теоретическую борьбу против коллективистского морализма и идеологической верности левых своим старым механистическим социальным идеалам — эта проблема была обозначена как «лефтизм», не позволяющий социалистам (в том числе, и в постсоветских странах) выйти за пределы теории и трезво оценить катастрофу современности.
В марте 2021 года мы связались с Бобом, чтобы поговорить о коллективном переживании боли, борьбе с институтом полиции и философии анархического индивидуализма. Обсудить все это с человеком, вот уже несколько десятилетий отстаивающим интеллектуальную бескомпромиссность в противостоянии с общепризнанными гуру радикализма, важно именно сейчас, когда большинство левых организаций не могут найти себя в условиях идущей вот уже год войны.

Является ли систематическое институциональное насилие достаточным мотивом для вовлечения человека в радикальную борьбу? Или опыт индивидуальной травмы скорее подталкивает к действию?
Системное (институциональное) насилие встречается гораздо чаще, чем радикальное сопротивление ему. Вильгельм Райх писал, что вопрос не в том, почему некоторые рабочие бунтуют, а в том, почему все они не бунтуют. Итак, личный опыт переживания системного насилия и угнетения (угроза насилия всегда стоит за угнетением) широко распространен, а сопротивление — нет. Отчасти это просто репрессии, страх перед угнетением и ощущение бесполезности сопротивления. Разочарованные люди не знают, сколько есть еще таких же разочарованных людей. Они могут знать, что несколько их друзей чувствуют то же самое, что и они. Они уверены, что не могут быть единственными. Но сколько еще таких людей? И кто они?
Серьезный опыт личной травматизации может иметь различные, и даже противоречивые последствия для человека. По словам Ницше, «то, что меня не уничтожает, делает меня сильнее». Ницше гораздо оптимистичнее, чем думают люди. То, что меня уничтожает, делает меня слабее. И то, что не разрушает меня, может, в конце концов, также сделать меня слабее, особенно если мы думаем не о единичном травмирующем событии, а о длительном, непрерывном ослабляющем опыте, таком как работа. Тот, кто выходит из тюрьмы через 10, 20 или 30 лет, всегда слабее, чем когда он туда попал. Он не опасен, но и ни на что не годен.
Капитализм и уродливая жизнь потребителей и наемных работников сильно исказили наше понимание того, что такое удовольствие. Иногда кажется, что наши сверстники, приумножив свои многочисленные мелкие идентичности, нагло наступают на горло робкой возможности испытать неведомые ранее удовольствия. Наша радость сегодня больше похожа на истерику. Как же вернуть гедонизм как необходимое условие освобождения?
Я согласен с Раулем Ванейгемом, что лучше бы революция, о которой мы мечтаем, была мотивирована гедонизмом и приводила к всеобщему удовольствию. Но для многих людей их основные потребности должны быть удовлетворены, прежде чем они испытают удовольствие, и не как случайный опыт, а как повседневную часть нового образа жизни. В развивающихся странах, и не только в самых богатых, должно быть, например, всеобщее здравоохранение и ликвидация бедности (всеобщий базовый доход, пока у нас есть денежная экономика).
И, как вы и предполагаете, для множества людей, возможно даже для всех, справедливо утверждение о том, что мы не очень хорошо умеем испытывать удовольствие или быть счастливыми. Мы не часто испытываем эти переживания, а когда испытываем, они в основном опосредованы товарами. Стремление к удовольствию может быть отчаянным, хотя наиболее полно оно реализуется на досуге или в свободной творческой деятельности. Хорошая жизнь — это, как писал Уильям Моррис, неторопливая жизнь. Мы отчаянно стремимся к удовольствию, потому что не знаем, когда нам в нем будет отказано.
Анархо-индивидуализм, на какой стимул он делает ставку? Или здесь все настолько же индивидуально, насколько анархично?
«Анархо-индивидуализм» — это выражение, которое я считаю проблемным. Все настоящие анархисты — индивидуалисты, включая коллективистов и коммунистов. Левые, в том числе анархо-левые, используют термин «индивидуализм» как эпитет. Но когда они это делают, по крайней мере, когда это делают анархисты — они отвергают свое собственное наследие. Для нас индивидуально быть революционными анархистами — значит преследовать собственные интересы, зная, что мы разделяем наши интересы с большинством людей и можем наиболее эффективно преследовать наши интересы вместе. Призыв к личному интересу — просвещенному личному интересу — более эффективен, чем призывы к морали или самопожертвованию. Эгоист заслуживает большего доверия, чем альтруист. Святые и герои вполне могут иметь место в революции — мы можем извлечь выгоду из их усилий и жертв, — но немногие из нас являются героями, и еще меньше из нас — святыми. Их самодовольство может слишком легко привести к притязанию на власть или даже к тому, чтобы на них давили.
Левые привыкли ругать деполитизацию как процесс, который негативно отразился на сознании широких масс. Но не окажется ли так, что в борьбе за посттрудовое будущее эта особенность только сыграет на руку?
Если под «деполитизацией» вы подразумеваете, что «массы» отказываются от участия в политических процессах — особенно в выборах — то я за это. Левые должны понять, что большинство их традиций неактуальны. Выступая за «воздержание» — от голосования — я нахожусь в русле классического анархизма. Я, как и другие анархисты — Эррико Малатеста, Октав Мирбо, Эмма Голдман — писал критические статьи о демократии. Но людям не нужно читать анархистскую критику, чтобы понять, что демократия — это фикция. Им не нужно читать мои эссе, чтобы понять, что работа — это фикция и мошенничество. Моя идея революции — это массовый уход с работы (всеобщая забастовка) и от повиновения. Она, вероятно, будет включать в себя некоторое насилие — инициированное полицией, — но это не будет в первую очередь вооруженным восстанием в традиционном понимании XIX века. В конце концов, все они потерпели неудачу, и еще более вероятно, что они потерпят неудачу в XXI веке, когда государство использует обширную технологию репрессий. Но его сила проистекает из нашего послушания или молчаливого согласия. Что толку в ядерном арсенале, например, против пассивного неповиновения? Они не могут взорвать городское население, не взорвав себя. Когда в начале XIX века в Британии впервые провозгласили все-общую забастовку, ее назвали Великим национальным праздником. Я пишу об этом в своей последней книге «Вместо работы». Кто не любит отдыхать? Великие революции современности в большей или меньшей степени были праздниками. Посттрудовой мир будет фестивалем, который никогда не закончится.
Чем же тогда в этом прекрасном мире гедонистического будущего будут заниматься «политические маньяки»?
Политические боевики, если вы имеете в виду политических маньяков, должны больше учиться, чем учить в луддистской революции. Их лозунги и ритуалы становятся неуместными, бессмысленными и скучными. Для большинства из них политическое воинствование — это фаза, которую они все равно скоро переживут. Некоторые из них переходят от революционных идеологов к идеологам контрреволюции. За это можно получить материальное вознаграждение, а психологическое удовлетворение примерно такое же. Большинство левых незаметно дрейфуют в общей массе населения.
Являются ли протесты, происходящие сегодня в разных частях мира против жестокости полиции, демонстрацией усталости этих обществ от самого института полиции?
Полиция — это проблема везде, но я не уверен, что она везде одинаковая. Американская полиция ежегодно убивает 1 000 человек, просто в ходе своей обычной работы. Везде они являются первой линией обороны режима против массовых протестов, каков бы ни был характер режима. Вероятно, везде они представляют собой изолированную субкультуру. Они подозревают, что их никто не любит, и на самом деле никто не любит. Полицейские верны не столько режиму или капитализму, сколько самим себе. Они наиболее сильны и наиболее опасны не против массовых протестов, а в повседневном общении с отдельными гражданами. Их повседневная работа по патрулированию улиц, возможно, и не снижает уровень преступности, но внушает всеобщий страх. Однако чем больше масштабы, в которых люди публично бросают вызов полиции, тем менее она эффективна. В последние годы полиция прошла определенную подготовку по полувоенной тактике подавления беспорядков — это часто экспорт из США — но (за исключением некоторых небольших специализированных подразделений) она слишком недисциплинированна, чтобы быть уверенной в победе над большими толпами демонстрантов и бунтовщиков, тем более что некоторые демонстранты, такие как черные блоки, разработали тактику противодействия полиции. Полиция проиграла несколько уличных стычек, и когда это произошло, она потеряла преимущество мифа о своей непобедимости. Так что… да, многие люди устали от полиции, и многие люди знают, что полицию, какой бы опасной она ни была, можно победить. И полиция тоже это знает. Полицейские — это хулиганы, а все хулиганы — трусы.
Следите ли вы за событиями в Мьянме, где анархисты принимают самое активное участие в уличных боях? Как вы думаете, возможен ли в этих условиях новый CHAZ или Чьяпас?
Боюсь, что я не очень хорошо информирован о событиях в Мьянме и вообще о международных новостях. Американские основные СМИ почти ничего не сообщают об этих событиях. Я мог бы узнать немного больше из иностранных и радикальных СМИ, но я не часто пытаюсь их искать. Я даже не очень хорошо информирован о Чьяпасе или Рожаве, которые, как предполагается, имеют анархистские аспекты. Конечно, я бы хотел, чтобы радикальные анклавы сохранялись в течение длительного времени — даже если они не являются радикальными именно в том смысле, который я предпочитаю. Мне бы еще больше хотелось, чтобы они расширялись. Но я боюсь, что в долгосрочной перспективе они будут подавлены, или же их вновь ассимилируют в общества, от которых они отделились. Наверное, замечательно жить во Временной автономной зоне, но печально, что она будет Временной. С другой стороны, я могу представить или попытаться представить себе свободное общество, состоящее из множества одновременных или последовательных автономных зон. В любой момент времени существует широкий выбор образов жизни. Если автономная зона исчерпала свои возможности, это признак зрелости, а не неудачи, если ее жители признают этот факт и двигаются дальше. Когда я читаю то немногое, что Маркс написал о «высшей стадии» коммунизма, «конце предыстории», мне вспоминаются литературные утопии, в которых образ жизни представлен как статичный, окончательный способ жить. Вероятно, лучшая из этих утопий, «Вести из ниоткуда» Уильяма Морриса, даже имеет подзаголовок «Эпоха покоя». Я не верю в прогресс, рассматриваемый как направленные социальные изменения. Но я верю, что жизнь может быть лучше. И, возможно, это всегда будет правдой, что жизнь может быть лучше.
Я не хочу критиковать участие анархистов в этой борьбе, даже если ее результатом вряд ли станет анархистское общество или только локальное и временное. Они могут привести к большей свободе, по крайней мере, на некоторое время, и люди могут позже вспомнить, что социальные изменения возможны.
Как вы думаете, какого черта современные анархисты продолжают участвовать в таком цирке, как украинская Революция Достоинства (2014), и в либеральных протестах в России и Беларуси (2020-2021)? Связано ли это с «детской болезнью левизны»?
Смотрите мой ответ на предыдущий вопрос. Кроме того, либеральные протесты могут выйти
Как вы относитесь к левому акселерационизму? Вы по-прежнему придерживаетесь мнения, что развитие средств производства не способно освободить человека от работы?
Старую идею о том, что благодаря развитию средств производства, движимых все более совершенными технологиями, капитализм упразднит сам себя, я всегда считал абсурдной. У меня нет места, чтобы изложить все причины, по которым я так считаю. Повышение производительности труда не обязательно приводит к повышению заработной платы, сокращению рабочего времени, усилению контроля работников над своей работой, повышению творческого подхода к работе или ее удовлетворению. Часто она не делает ничего из этого. И никогда не делает всех этих вещей. Автоматизация упраздняет некоторые виды труда, ликвидируя некоторые рабочие места. Но в мире труда безработица — это свобода от дохода, а не свобода от работы.
Книга Дэвида Грэбера «Bullshit Jobs» сейчас очень популярна в России. В чем принципиальная разница между вашей идеей упразднения работы и идеями Грэбера?
Я знаю эту книгу, а Грэбер знал мои книги — он процитировал меня. По его словам, автоматизация действительно упраздняет многие рабочие места, но эти рабочие места в основном заменяются «фигней»: рабочими местами, которые настолько не нужны, что люди, занимающие их, стыдятся их. У нас с Грэбером есть несколько разногласий. Давным-давно я критиковал его идею о том, что анархизм — это демократия, доведенная до совершенства. Я думаю, что критика демократии — это завершение анархистской критики государства. Возможно, это мое тщеславие, но я подозреваю, что когда Грэбер продолжил писать о работе, он пытался бросить вызов моей известности в этом вопросе. В книге «Bullshit Jobs» Грэбер так и не сформулировал радикальную альтернативу работе. Он говорит о том, что универсальный базовый доход был бы хорошим началом — хоть что-то. Мне тоже нравится ББД, но я говорю о том, к чему, как я надеюсь, он может привести: к отмене работы. Грэбер этого не делает. Как и в других своих книгах для широкого потребления, о долге и о бюрократии, Грэбер очень информативен, но каждый раз, ближе к концу, он становится расплывчатым и неубедительным в том, «что нужно делать». Он никогда не упоминает анархизм. Он даже не предлагает анархизм, называя его как-то иначе.
Трансформировался ли человеческий страх перед свободой?
Я не знаю. Для некоторых людей страх перед свободой — это страх перед неизвестностью. Для некоторых людей страх свободы — это страх ответственности, как у моего любимого дяди Брюса, который был кадровым военным (береговая охрана), потому что ему нравилось, когда о нем заботились. Эти виды страха могут быть тесно связаны между собой. Когда люди становятся более свободными, как это время от времени случается, им это может нравиться, и они могут становиться лучше. А может, и нет. Давайте подумаем о свободе не как о состоянии, а как о наборе навыков. Это (в терминологии философа Гилберта Райла) «знать как», а не «знать что». (Конечно, «знание как» всегда подразумевает некоторое «знание что»). И, как говорится, «практика делает совершенным».
Когда вы чувствуете себя по-настоящему свободным?
Я чувствую себя полностью свободным только тогда, когда отвечаю на такие вопросы, как ваши.
Интервью: Александра Пушная и Александр Мигурский
Перевод и иллюстрации: Александра Пушная