Люба Макаревская. Омут
Любовь на улице вязов
Американская исследовательница Кэрол Джей Кловер, специализирующаяся на феминистском прочтении жанра слэшер, в книге «Мужчины, женщины и бензопилы: гендер в современных фильмах ужасов» (Men, Women and Chainsaws: Gender in the Modern Horror Film) вводит концепцию последней девушки (final girl) — единственной героини, остающейся в живых после встречи с противником. Последнюю девушку не стоит путать с классическим архетипом девы в беде, которую спасает мужчина, ведь final girl справляется с агрессором сама.
Важный атрибут последней девушки — двоякая гендерная роль. В статье «Ее тело, он сам: гендер в слэшерах» Кловер пишет: «физически она — женщина, по характеру — андрогин». В кульминационной сцене героиня вырывает оружие из рук убийцы. Момент конечной схватки снят субъективной камерой — от лица женщины и противопоставлен началу фильма, когда зритель видит последнюю девушку впервые — глазами преследователя (опять же, субъективно). Смена точек наблюдения, по мнению Кловер, осуществляет «корректировку гендерной репрезентации»: от садистского мужского взгляда — к оптике жертвы.
Концепцией final girl можно описать и субъекта высказывания в поэзии Любы Макаревской, также совмещающего две гендерные модели. Феминность в этих стихах выражена грамматически: «я поняла», «я захотела», «я сняла», «она возненавидела» и в означающих, отсылающих к женскому опыту: «И расходится / по краям / лобковым волосам», «Вырастить / в себе / как зародыш / редкого / цветка». С другой стороны, собственное (и, бесспорно, феминное) желание транслируется как настойчивая просьба, через императивы: «Пожалуйста / возьми меня», «Пожалуйста / пусти меня», «Говоришь / приди / любовнику / любовнице». Любой опыт, о котором говорится в этих стихах, предельно субъективен, аффект — физиологичен, внешняя реальность захвачена личным, часто именно телесным, переживанием: «рубцуется пространство», «я открываю / наречия / кожу», «весь сахарный / хребет своей / памяти». Однако гендерная двойственность заключается не в интеграции «мужского» с «женским», а «женского» с «андрогинным». В приведенных примерах видно, что феминность не превращается в маскулинность, но мерцает, мимикрирует под другие, пограничные модели, лежащие за рамками нормативной бинарности.
Другой, к которому обращается письмо Макаревской, явлен как отсутствие. «Как ты можешь / так поступать / со мной?» — тот, кому задается вопрос молчит, его желание неизвестно, словно вытеснено за пространство текста. «Когда помнишь / себя чистой / только через / другого / Но уже / не можешь / знать / помнит ли / он». Помимо перефразированной формулы «Мое желание — это желание Другого» цитата показывает тревогу, зашифрованную в этой лакановской мысли и связанную с вопросом о том, кем оказывается субъект в парадигме чужого желания: «помнит ли он?» Эта тревога — место, откуда исходит авторский голос, и она всегда сопряжена с адресностью: «Смотри я снова / много пишу / Почти как / раньше / почти как / до». Другой здесь — маркер произошедшей ранее травмы.
Но если в слэшерах сценам насилия уделяется около трети хронометража, то в поэзии Макаревской на него [насилие] лишь указывается: «Я
В упомянутой статье Кловер говорит: «Последняя Девушка с самого начала меняет регистры; до своей последней схватки она переживает тяжелейшие муки “женственности” и даже во время нее то слабеет, то крепнет, то бежит от убийцы, то нападает на него, то вонзает нож, то получает удар ножом, кричит то от страха, то от ярости».
Final girl в произведениях поэтессы испытывает похожую неопределенность. Она остро чувствует зыбкость гендерных ролей, прописанных в культуре, поэтому проскальзывает между ними, обнаруживая зияние, где и разыгрывается специфика женского. Сказать о нем в рамках привычной артикуляции желания значит поддаться фаллоцентричным модусам. Вместо этого Макаревская описывает границу, за которой и лежит другой способ говорения — внутри особой памяти тела: «Чтобы я могла / сказать тебе / теперь / когда так / некрасиво выросла / дыра / Есть ее / рваные края / и есть память / тела и сознания».
Дмитрий Герчиков

***
Я
поняла вчера
когда горела
не про тебя
не про себя
А
больше
Я захотела
слизать языком
это знание
Вырастить
в себе
как зародыш
редкого
цветка
Чтобы навсегда
осталось
во мне
а то что
я буду без
этого знания?
Руки ноги
глаза
вход
омут
без начала
и конца.
***
Только мое
и только твое
как язык
огибает пальцы
по кругу
Уходит в текст
вглубь
в ветер
Я стала
стала
стала
смотри
Видишь
я снимаю
я открываю
наречия
кожу
следы
И расходится
по краям
лобковым волосам
стволам деревьев
по новым и старым
заветам
По страшному
цветению
на руках
по язвам во рту
по безучастным
и вечным
ангелам
и мостовым.
***
И тогда она
возненавидела
его
И вместе
с ним
весь сахарный
хребет своей
памяти
Весь цикл
снежных дней
бесснежных дней
Движение
во рту
движение
в крови
короткое
-Пожалуйста
пусти меня
короткое
-Пожалуйста
возьми меня
И мир
открытый
пустоте
ее боли
Без участия
наших рук
рубцуется
пространство
Говоришь
приди
любовнику
любовнице
хочешь сказать
смерти
но в такой
пустоте
и она откажет.
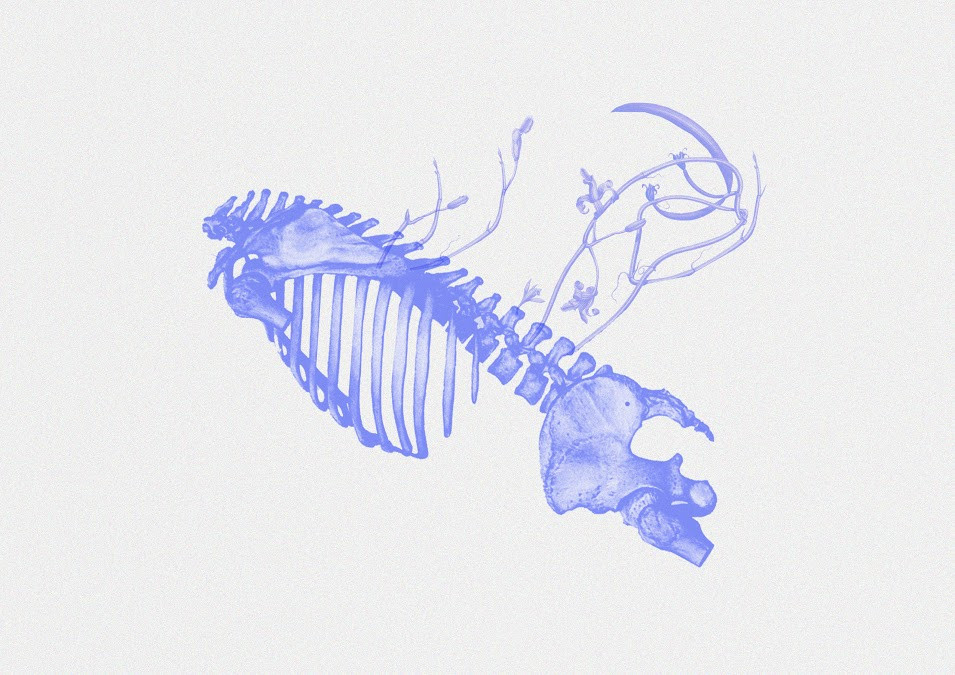
***
Чтобы я могла
сказать тебе
теперь
когда так
некрасиво выросла
дыра
Есть ее
рваные края
и есть память
тела и сознания
Когда помнишь
себя чистой
только через
другого
Но уже
не можешь
знать
помнит ли
он
Показалось
только слово
в дыму
новорожденной
листвы
Как теперь
ты чувствуешь
удивление
так же
или
по-другому?
***
Мел он вынес
на губах
Смерть
на пальцах
Как игру
Так в подземном
мире
Должны выносить
знание о наличии
света
О его движении
по лицу
шее
мочкам ушей
По телу
оставленному
или
любимому.
***
Редкая ласка
редкая просьба
зыбкий страх
первая запятая
город закрытый
на карантин
будешь вынимать
меня из него
из себя самой
языком?
Игрушки
детские и взрослые
убаюкивает
холод
дезинфицирует
холод
и ты смотришь
на меня из той
точки откуда
не вернуться.

***
«Текст без возможности
конца»
Стереть
как ластиком
все правдивые
слова
Неудобные
как кровь
на платье
ниже спины
Набор фраз
которые страшно
говорить:
-Как ты можешь
так поступать
со мной?
-Как я могу так
поступать
с тобой?
Как они могут так
поступать
с нами?
Именно этого
я никогда
не скажу
тебе
Именно для
этого всегда
не время
и всегда
неудобно
Неудобно жуткое
чувство
Была в сети в 2.43
Был в сети 3.04
Не была в сети
Не был в сети
Не в сети
/Мне страшно
я чувствую что
становлюсь
такой маленькой
как будто я
исчезаю/
Исчезаю
с лица земли
с гладких
радаров
отчуждения
Становлюсь
собой
огнем
ртутью
лихорадкой
пустотой
ртом лишенным
речи
Как первого
и последнего
из своих прав
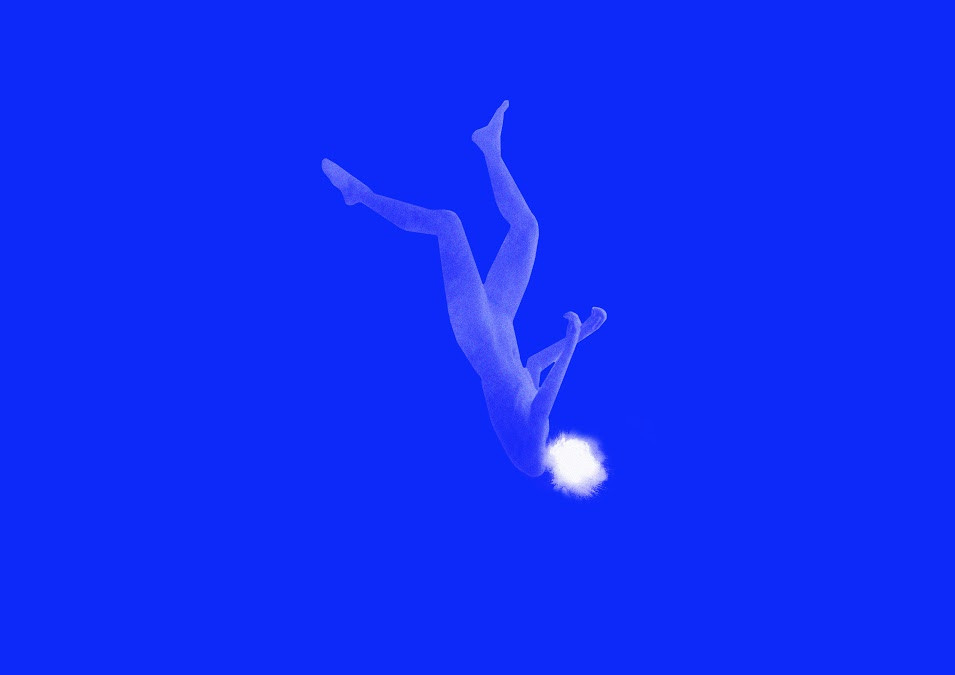
***
Наречия
глаголы
или это
только синяки
на моих бедрах
ягодицах
На покрове
земли
всегда
заново
раненному
Назови все
своими
именами
и умри
Как встречается
с болью
рука
с лаской холода
первая листва
Так зрение
ищет даль
простор
касаясь по кругу
как по языку
расстояния
о стены
до окна.
***
Когда ты вдруг
становишься
таким что
я перестаю
узнавать
тебя
И дыхание
открывается
со обратной
стороны
вовнутрь
снега
И речь
исчезает
плавится
перестает
быть нужной
И потом
возвращается
нескладными
волнами
интонациями
нежности
И вот я
решаюсь видеть
весеннюю ночь
и я знаю что
ты тоже видишь
пока телефонные
провода
Расщепляют
обнимают
выволакивают
как после
кораблекрушения
И мир
застывает
ждущий
растерянный
переломанный
собранный
заново
как всегда
как впервые.
***
Уставшее лицо
в зеркале
как после
любого затянувшегося
опыта
Нет сил
думать о том
что думали
другие когда
не возвращались
Странные дни
я все еще
помню твой
запах
/Не плачь об
мне или плачь
только об мне/
Хочется сказать
как после
школы
как после всего
-Смотри я снова
много пишу.
Почти как
раньше
почти как
до.

Люба Макаревская, поэт, прозаик. Родилась в 1986 году в Москве. Стихи и проза публиковались в журналах: «Дружба народов», [Транслит], «Воздух», «Носорог», «Зеркало», «Новое литературное обозрение», а также на сайте «Сноб» и в ряде других сетевых изданий. Вошла в
