Бодлер: модернизм на улице

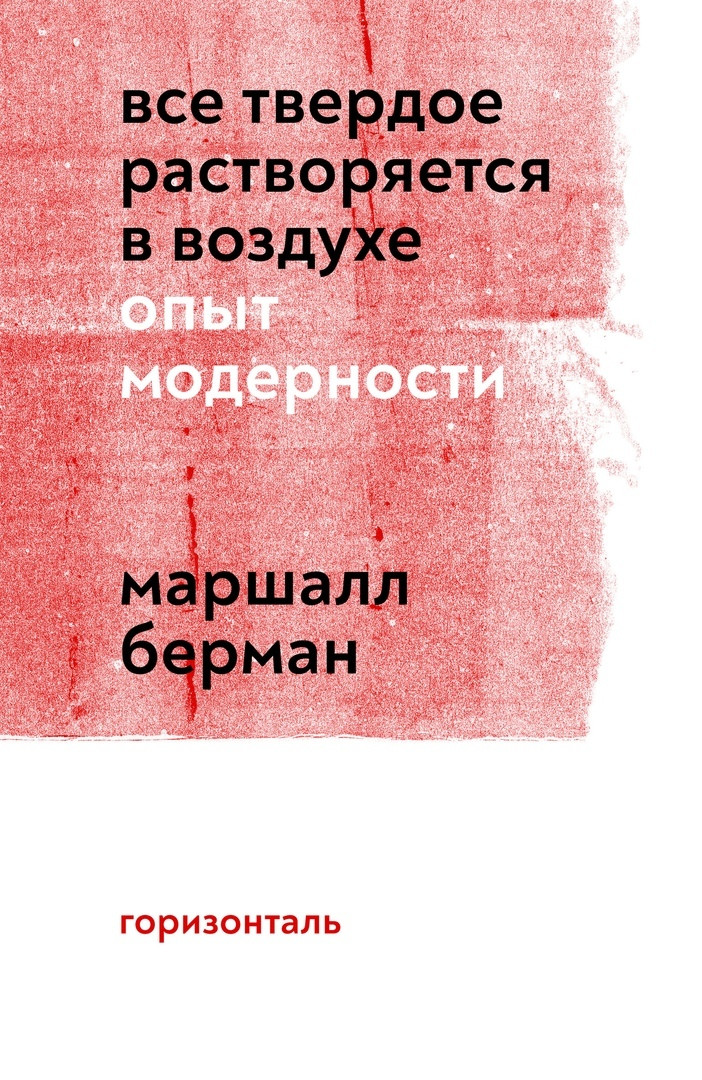
А теперь представьте себе Париж <…> Представьте себе эту «столицу мира»… где на любом углу разыгрывались события мировой истории.
Гете — Экерману, 3 мая 1827 года
Не просто изображением обычной жизни, не просто изображением омерзительной жизни великой столицы мира, но доведением этих картин до высшего напряжения, — когда они выражают то, что есть, но также и нечто помимо этого, — создал Бодлер способ освобождения и выражения для других.
Т.С. Элиот, «Бодлер», 1930
В последние три десятилетия огромное количество энергии по всему миру было потрачено, чтобы исследовать и распутать смыслы модерности. Значительная часть этой энергии распылилась ошибочно и безнадежно. Наше представление о модерной жизни, как правило, существует раздельно в материальной и духовной плоскостях: некоторые посвящают себя «модернизму», который считают образцом чистого духа, развивающимся согласно его автономным художественным и интеллектуальным императивам; другие работают в рамках концепции «модернизации» — комплекса материальных структур и процессов (политических, экономических, социальных), которые, как считается, однажды начавшись, двигаются сообразно собственной динамике, вовсе или почти не предусматривающей влияния человеческих умов или душ. Этот дуализм, вездесущий в современной культуре, отрезает всех нас от одного из повсеместно наблюдаемых фактов модерной жизни: смешения ее материальных и духовных сил, глубокого единства модерной личности и модерной среды. Но первая великая волна авторов и мыслителей, писавших о модерности, — Гете, Гегель и Маркс, Стендаль и Бодлер, Карлейль и Диккенс, Герцен и Достоевский, — инстинктивно чувствовала это единство; их образам присущи богатство и глубина, которыми, к сожалению, обделены современные тексты о модерности.

Центральная фигура этой главы — Бодлер, который более чем кто-либо помог мужчинам и женщинам своего времени осознать себя представителями модерности. Модерность, модерная жизнь, модерное искусство — эти понятия беспрестанно появляются в работах Бодлера; два его великих эссе — короткое «О героизме в современной жизни» и более длинное «Поэт современной жизни» (1859-60 гг., опубликовано в 1863) — задали направление целого столетия искусства и мысли. В 1865 году, когда тяжело больной Бодлер жил в бедности и безвестности, молодой Поль Верлен пытался пробудить к нему интерес, называя причиной его величия концепцию модерности: «Глубочайшая оригинальность Шарля Бодлера кроется, на мой взгляд, в его манере представлять современного человека. <…> Речь здесь идет о современном человеке из плоти и крови, который был создан изысками нашей цивилизации, о современном человеке с его обостренными и вибрирующими чувствами, с его изощренным умом, с его мозгом, напитанным табаком, с его кровью, воспламененной алкоголем. <…> Эту, так сказать, индивидуальность чувств Шарль Бодлер, я повторяю, представляет в типическом аспекте, выводя, если угодно, героя века» [1]. Два года спустя поэт Теодор де Банвиль развил эту тему в трогательной траурной речи у могилы Бодлера:
Он принял модерного человека целиком, с его слабостями, надеждами и отчаянием. Так он смог придать красоту образам, которые сами по себе не обладают красотой, не окрасив их романтикой, но осветив ту часть человеческой души, что в них скрыта; так он показал печальное и зачастую трагическое сердце модерного города. Вот почему он занимал и всегда будет занимать умы модерных людей и трогать их души, в то время как к другим художникам они остаются холодны. [2]
За столетие, последовавшее за смертью Бодлера, слава его выросла, как и предсказывал Банвиль: чем более западная культура интересуется модерностью, тем более мы ценим оригинальность и смелость Бодлера как ее пророка и первопроходца. Если бы нам надо было назвать первого модерниста, мы безусловно выбрали бы Бодлера.
Однако при этом отличительное свойство многих его текстов о модерной жизни и искусстве — поразительная неуловимость предложенного им понимания модерного, которое сложно однозначно установить. Возьмем, например, один из самых известных отрывков «Поэта современной жизни»: «Новизна составляет переходную, текучую, случайную сторону искусства; вечное и неизменное определяет другую его сторону». Художник (романист, философ) современной жизни сосредотачивает свое воображение на ее «моде, нормах поведения, страстях», на «вечности, отраженной в преходящем». Это понимание модерности подразумевало выпад против фиксации на классике, которая господствовала во французской культуре. «Мы удивимся общей для всех художников склонности изображать своих персонажей в старинной одежде».
За столетие, последовавшее за смертью Бодлера, слава его выросла, как и предсказывал Банвиль: чем более западная культура интересуется модерностью, тем более мы ценим оригинальность и смелость Бодлера как ее пророка и первопроходца. Если бы нам надо было назвать первого модерниста, мы безусловно выбрали бы Бодлера.
Первый категорический императив бодлеровского модернизма заключается в том, чтобы ориентироваться на первичные силы модерной жизни; но Бодлер не сразу проясняет здесь, что это за силы и как нам следует к ним относиться. Тем не менее, если разобрать его труды, то можно обнаружить, что они содержат несколько различных представлений о модерности. Порой эти представления, кажется, жестко противоречат друг другу, и Бодлер будто бы не всегда улавливает напряжение между ними. Тем не менее изображает их он с живостью и с блеском, зачастую — с большой оригинальностью и глубиной. Более того, все бодлеровы представления о модерности и вся его противоречивая критика в ее отношении живут собственной жизнью и в наше время, много лет спустя после его смерти.
Настоящее эссе открывается самой простой и некритической из бодлеровых интерпретаций модерности: лирическими воспеваниями модерной жизни, которые создали характерную пастораль модерна, и неистовыми обвинениями в ее адрес, которые дали начало модерным формам антипасторали. Пасторальные представления Бодлера о модерности будут разработаны уже в наше столетие и будут названы «модернолатрией»; его антипасторали станут тем, что в XX веке получит имя «разочарования в культуре». [4] Затем мы отойдем от этих ограниченных образов и посвятим большую часть эссе более глубокой и интересной — хотя, возможно, менее известной и влиятельной — перспективе Бодлера, которая не признает никаких окончательным решений, будь то эстетических или политических, которая смело борется с собственными внутренними противоречиями и может осветить модерность не только времен Бодлера, но и наших лет.
Все бодлеровы представления о модерности и вся его противоречивая критика в ее отношении живут собственной жизнью и в наше время, много лет спустя после его смерти.
1. Пасторальный и антипасторальный модернизм
Начнем с модерной пасторали Бодлера. Самая ранняя версия ее появляется в предисловии к «Салону 1846 года», где он критически обозревает новое искусство, представленное в том году. Предисловие озаглавлено «Обращение к буржуа». [5] Современный читатель, который привык думать о Бодлере как о заклятом непрестанном враге буржуазии и всех ее свершений, будет весьма удивлен. [6] Здесь Бодлер не только хвалит буржуа, но даже льстит им, их интеллекту, силе воли и творческому началу в промышленности, торговле и финансах. Не до конца ясно, кто, по его мнению, составляет этот класс: «Вас большинство — и числом и способностями, — за вами сила и, следовательно, право». Если буржуазия составляет большую часть населения, то что с рабочим классом, не говоря уже о крестьянстве? Однако надо помнить, что мы находимся в пасторальном мире. Когда буржуазия осуществляет здесь огромные предприятия, — «вы объединили усилия, вы создали компании, вы прибегли к займам», — делает она это не для того, как некоторые могли бы подумать, чтобы заработать много денег, но с куда более благородной целью: «дабы содействовать осуществлению идей будущего в самых различных его аспектах — в политике, промышленности, искусстве». Здесь основной мотив буржуа — это стремление к бесконечному прогрессу человечества, не только экономическому, но повсеместному, распространяющемуся в равной степени и на сферы политики и культуры. Бодлер взывает к тому, что он считает врожденной созидательностью и универсальностью их мировосприятия: раз их воодушевляет стремление к прогрессу в промышленности и политике, бездействовать при виде застоя в искусстве будет недостойно их чести.
Как и Милль поколение спустя (и даже Маркс в «Манифесте Коммунистической партии»), Бодлер апеллирует к вере буржуазии в свободную торговлю и требует, чтобы этот идеал распространился на сферу культуры: как юридически закрепленные монополии (предположительно) мешают экономической жизни и энергии, так и «аристократы мысли, те, кто присвоил себе исключительное право хвалить или хулить» будут душить жизнь духа и лишать буржуазию богатых источников модерного искусства и мысли. Вера Бодлера в буржуазию отрицает более темные порывы, скрытые за ее экономическими и политическими побуждениями — потому я и называю его представление пасторальным. Тем не менее наивность «Обращения к буржуа» проистекает из замечательной открытости и щедрости духа. Она не пережила — не могла пережить — июнь 1848 и декабрь 1851 года; но очаровательно, что она все же была у столь горестной души как Бодлер. В любом случае, это пасторальное представление провозглашает естественную близость между модернизацией материальной и духовной; оно подразумевает, что группы, наиболее динамичные и инновационные в экономической и политической жизни, окажутся наиболее открыты к интеллектуальному и художественному творчеству — будут «содействовать осуществлению идей будущего в самых различных его аспектах»; это представление считает, что и экономические, и культурные изменения не привносят проблем в общий прогресс человечества. [7]

Написанное в 1859-1860 гг. эссе Бодлера «Поэт современной жизни» рисует совсем иную пастораль: здесь модерная жизнь представляется в виде огромного показа мод, системы ярких образов, блестящих фасадов, великолепных триумфов декора и дизайна. Герои этого зрелища — художник и иллюстратор Константен Гис, а также архетипическая Бодлерова фигура Денди. В мире, который рисует Гис, зритель «любуется <…> поразительной гармонией жизни больших городов, гармонией, которая чудом сохраняется среди шумного хаоса человеческой свободы». Читатели, знакомые с Бодлером, удивятся этим словам в духе доктора Панглосса; становится интересно, а в чем же шутка, но затем мы с разочарованием осознаем, что ее нет. «Желая еще раз определить излюбленные сюжеты нашего художника, я бы сказал, что он предпочитает отображать праздничную сторону жизни [la pompe de la vie], какой она предстает взору в столицах цивилизованных стран — в мире военных, в светском обществе, в любви [La vie militaire, la vie elegante, la vie galante]». Если мы обратимся к сделанным Гисом журнальным зарисовкам «красивых людей» и их мира, то увидим лишь массу стильных костюмов, заполненных безжизненными манекенами с пустыми лицами. Однако художник не виноват в том, что его искусство больше всего похоже на рекламу Bonwit или Bloomingdale’s. По-настоящему печально, что Бодлер написал не одну страницу прозы, которая чрезвычайно им подходит.
Все вызывает в нем радость: роскошные экипажи, горделивые лошади, вылощенные грумы, проворные лакеи, гибкая поступь женщин, здоровые, веселые, нарядные дети — словом, он наслаждается зрелищем жизни. И если слегка изменилась мода или покрой одежды, если банты и пряжки уступили место кокардам, если чепец стал шире, а узел волос на затылке чуть-чуть опустился, если пояса стали носить выше, а юбки сделались пышнее, то, поверьте, его орлиный глаз тотчас приметил это еще издалека. [8]

Если это есть, как говорит Бодлер, «зрелище жизни», то что же тогда зрелище смерти? Поклонники поэта пожалеют о том, что, написав текст, ничем не отличающийся от рекламы, он не смог получить за него оплаты (деньгам он мог бы найти применение, хотя, конечно, ради них никогда бы подобного не сделал). Однако эта пастораль важна не только для карьеры самого Бодлера, но и для столетия развития модерной культуры, что отделяет его время от нашего. Большой корпус модерных текстов, зачастую написанных серьезнейшими авторами, в изрядной степени похож на рекламу. Данный текст усматривает воплощение всей духовной траектории модерности в новейшей моде, новейшей машине или — и здесь он становится жутковатым — в новейшем образцовом полку.
Проходит полк, направляясь, быть может, на другой конец света, он наполняет окрестные улицы певучими звуками фанфар, манящими как надежда, а


Эти солдаты убили 25 000 парижан в июне 1848 года и расчистили путь для Наполеона III в декабре 1851 года. В обоих случаях Бодлер выходил на улицу, чтобы сражаться против людей, чья животная «радость в повиновении» сейчас так его зачаровывает — и которые запросто могли убить его. [10] Приведенный выше пассаж напоминает нам о том факте модерной жизни, о котором легко могут позабыть люди, изучающие искусство и поэзию: об огромном (как психологическом, так и политическом) значении военных смотров и их способности пленять даже самые свободные умы. Со времен Бодлера парады играют центральную роль в пасторальном представлении о модерности: великолепная техника, броские цвета, поток рядов, быстрые и грациозные движения — модерность без слез.
Возможно, самая странная особенность пасторальных представлений Бодлера — она олицетворяет его извращенное чувство иронии, но также и его замечательную цельность — состоит в том, что эти представления не включают его самого. Эти улицы очищены от всех социальных и духовных диссонансов парижской жизни. Буйной природе, боли, тоске самого Бодлера, — а также всем его творческим достижениям в изображении того, что Банвиль назвал «модерным человеком целиком, с его слабостями, его чаяниями и отчаянием», — в этом мире совершенно нет места. Следует понимать, что, когда Бодлер выбирает в качестве архетипа «художника современной жизни» Константена Гиса вместо Курбе, Домье или Мане (всех которых он знал и любил), дело не просто в нехватке вкуса, но в глубоком отвержении и принижении себя самого. Его обращение к Гису при всей своей убогости говорит о модерности нечто истинное и важное: она способна порождать формы «внешнего зрелища», великолепную внешность, эффектные спектакли — столь яркие, что они могут ослепить даже самые проницательные умы, не дав им узреть внутренний мрак.
Самый яркий антипасторальный образ модерности у Бодлера относится к концу 1850-х годов, к тому же периоду, когда был написан «Поэт современной жизни»: если между двумя этими представлениями и имеется противоречие, Бодлер его совершенно не замечает. Антипасторальная тема возникает впервые в 1855 году в эссе «О современном понимании прогресса применительно к изобразительному искусству». [11] Здесь Бодлер использует знакомую реакционную риторику, чтобы высмеять не только модерную идею прогресса, но и модерный образ мышления в целом:
Существует одно ходячее заблуждение, которого я боюсь как огня. Я имею в виду идею прогресса. Это изображение нынешней ложной философии запатентовано без гарантии со стороны Природы или Божества, этот новомодный фонарь — лишь тусклый светильник, изливающий мрак на все области познания. С его приближением никнет свобода, возмездие исчезает как дым. Тот, кто хочет осветить путь истории, должен прежде всего потушить этот коварный фонарь. Нелепая идея прогресса, расцветшая на гнилой почве нынешнего самодовольства, сняла с нас бремя нравственного долга, избавила души от груза ответственности, освободила волю от всех уз, которые накладывало на нее стремление к совершенству. <…> Такое самоуспокоение само по себе является симптомом уже вполне зримого упадка.

Здесь красота представляется чем-то статичным, неизменным, полностью внешним к личности, что требует непреклонного повиновения и карает строптивых модерных субъектов, уничтожает все формы Просвещения, функционирует в качестве полиции духа на службе контрреволюционных Церкви и Государства.
Бодлер прибегает к этой высокопарной реакционной фразеологии, потому что его беспокоит смешение «понятий материального и духовного порядка», которое все более насаждают модерные небылицы о прогрессе. Так,

спросите у любого благонамеренного француза, завсегдатая своего кафе, где он каждый день читает свою газету, как он представляет себе прогресс. Он ответит, что прогресс — это пар, электричество и газовое освещение — неведомые римлянам чудеса; что эти изобретения исчерпывающе доказывают наше превосходство над античным миром. Какой же мрак царит в его замороченном мозгу!
Бодлер очень рационально борется против путаницы между материальным и духовным прогрессом — путаницы, которая сохраняется в наш век и особенно свирепствует в периоды экономического бума. Но тут он превращается в это же чучело из кафе, когда перескакивает на противоположный полюс и определяет искусство, кажется, совершенно вне его связи с материальным миром:
Бедняга настолько сбит с толку и американизирован зоократической и индустриальной философией, что начисто утратил представление о различии между миром физическим и миром нравственным, между естественным и сверхъестественным.
Этот дуализм чем-то похож на кантианское разделение ноуменальной и феноменальной сфер, но идет он куда дальше Канта, для которого ноуменальный опыт и деятельность — искусство, религия, этика — все же существуют в материальном мире, во времени и пространстве. Совершенно неясно, где или на какую тему мог бы творить этот бодлеровский художник. Бодлер идет дальше: он отделяет своего художника не только от материального мира пара, электричества и газа, но даже и от всей прошлой и будущей истории искусства. Так, говорит он, вредна даже сама мысль о предшественниках художника или о влиянии на него. «Всякое цветение неожиданно и неповторимо. <…> Художник исходит только из самого себя. <…> Он может поручиться только за себя. Он умирает, не оставляя потомства. Пока он жил, он был сам себе и государем, и духовником, и богом». [12] Бодлер ныряет в трансцендентность, оставив Канта далеко позади: художник превращается в ходячую вещь в себе, Ding-an-sich. Таким образом, в переменчивом и парадоксальном восприятии Бодлера антипасторальный образ модерного мира порождает удивительно пасторальное представление о модерном художнике, свободно плывущем над этим миром, не соприкасаясь с ним.
Впервые обрисованный здесь дуализм (антипасторальное представление о модерном мире и пасторальное — о модерном художнике и искусстве) Бодлер расширяет и углубляет в знаменитом эссе 1859 года «Современная публика и фотография». [13] Оно начинается с жалоб на то, что «исключительное стремление к отображению Реального (столь благородное, когда оно ограничено разумным применением) подавляет и душит стремление к Прекрасному». Это риторика баланса, которая не терпит взаимоисключающих крайностей: истина важна, однако она не должна подавлять стремление к красоте. Однако чувство сбалансированности длится недолго: «Там, где следует видеть только Прекрасное (нетрудно угадать, какую живопись я имею в виду), наша публика ищет только сходства с Реальным». Так как фотография способна воспроизводить реальность — показывать «Реальное» — более точно, чем когда-либо ранее, это новое изобретение становится «смертельным врагом искусства»; и в той мере, в какой развитие фотографии есть продукт технологического прогресса, «поэзия и материальный прогресс подобны двум честолюбцам, инстинктивно ненавидящим друг друга, и, когда они сталкиваются на одной дороге, один из них неизбежно порабощает другого».

Но в чем причины этой смертельной вражды? Почему наличие «Реального» в произведении искусства подрывает или уничтожает его красоту? Очевидный ответ, в который Бодлер верит (по крайней мере, сейчас) столь отчаянно, что даже не находит нужным ясно его выразить: Реальное модерности в высшей степени омерзительно, лишено не только красоты, но даже потенции обрести ее. Категорическое, граничащее с истерикой презрение к модерным людям и их жизни сквозит в подобных утверждениях: «В своем идолопоклонстве толпа создала достойный себя и соответствующий своей природе идеал». С момента появления фотографии «все это скопище мерзких обывателей ринулось, подобно Нарциссу, разглядывать свои заурядные физиономии, запечатленные на металле». Серьезное критическое рассуждение Бодлера об изображении реальности здесь уродуется некритичным отвращением к реальным модерным людям вокруг него. Это вновь приводит его к пасторальному пониманию искусства: «Я нахожу бесполезным и скучным изображать реальность, ибо ничто в этой реальности меня не удовлетворяет. Тривиальной действительности я предпочитаю порождения моей фантазии, пусть даже чудовищные». Еще хуже фотографов, пишет Бодлер, модерные художники, которые находятся под влиянием фотографии: модерный художник «все более склоняется писать не то, что подсказывает ему воображение, а то, что видят его глаза». Пасторальным и некритичным этот взгляд делают радикальный дуализм и полное непонимание того, что то, о чем художник (или человек вообще) мечтает и то, что он видит, могут образовывать насыщенные и сложные отношения, влиять друг на друга и смешиваться друг с другом.
Серьезное критическое рассуждение Бодлера об изображении реальности здесь уродуется некритичным отвращением к реальным модерным людям вокруг него. Это вновь приводит его к пасторальному пониманию искусства: «Я нахожу бесполезным и скучным изображать реальность, ибо ничто в этой реальности меня не удовлетворяет. Тривиальной действительности я предпочитаю порождения моей фантазии, пусть даже чудовищные». Еще хуже фотографов, пишет Бодлер, модерные художники, которые находятся под влиянием фотографии: модерный художник «все более склоняется писать не то, что подсказывает ему воображение, а то, что видят его глаза».
Выпады Бодлера против фотографии оказали огромное влияние на формирование особого вида эстетического модернизма, который в нашем столетии можно наблюдать повсеместно — например, у Паунда, Уиндема Льюиса и множества их последователей, — и который предполагает постоянные нападки на модерных людей и их жизнь, в то время как модерных творцов и их произведения превозносят до небес, не задумываясь о том, что они могут быть куда человечнее и причастнее к la vie moderne, чем хотелось бы думать. Другие художники XX века, такие как Кандинский и Мондриан, создали изумительные работы, мечтая о дематериализованном, лишенном условностей «чистом» искусстве. (Написанный в 1912 году манифест Кандинского «О духовном в искусстве» полон отсылок на Бодлера). Но, увы, творец, которому совершенно нет места в этом образе — сам Бодлер. Ведь его поэтический гений, его творения — точно так же, как у любого другого поэта до или после него, — связаны с конкретной материальной реальностью: ежедневной и еженощной жизнью улиц, кафе, подвалов и чердаков Парижа. Даже его представления о трансцендентном коренятся в конкретном времени и месте. Как от
Бодлер должен был это знать, по крайней мере, бессознательно; всякий раз отделяя искусство от модерной жизни, он вновь стремится объединить их в дальнейшем. Потому посреди эссе 1855 года о прогрессе он останавливается, чтобы рассказать историю, которую называет «превосходным уроком для критиков»:

Зная, с каким почтением выслушивают люди любой, самый незадачливый анекдот, касающийся великого гения Бальзака, я напомню один из них. Однажды, задержавшись перед хорошей картиной, изображавшей печальный зимний пейзаж с редкими, покрытыми инеем домишками и тощими фигурами крестьян, Бальзак долго разглядывал одну из лачуг и тонкую струйку дыма над ее крышей и вдруг воскликнул: «До чего же это прекрасно! Но хотелось бы мне знать, что делают люди в этой хижине? О чем они помышляют, каковы их заботы? Хорош ли был урожай? Наверняка их мучают сроки арендной платы!» [выделено Бодлером — прим. авт.]
Урок Бодлера, который мы более тщательно изучим в следующем разделе этого эссе, в том, что модерная жизнь обладает своеобразной и подлинной красотой, которая, однако, неотделима от невзгод и тревог, от сроков по счетам модерного человека, которые всегда поджимают. Парой страниц ниже, во время самодовольного разгрома модерных идиотов, мнящих, что они способны к духовному прогрессу, он внезапно становится серьезен и резко переходит от полной уверенности в иллюзорности модерной идеи прогресса к тревоге
Я оставляю в стороне вопрос о том, не рискует ли неограниченный прогресс, непрерывно угождая человечеству и изнеживая его, обернуться в результате самой изощренной и жестокой его пыткой? Постоянно отрицая свои собственные достижения, не обратится ли прогресс в некое непрерывно возобновляемое самоубийство? Замкнутая в огненном кольце божественной логики, способная порождать лишь вечное отчаяние, не уподобится ли эта вечная и ненасытная жажда скорпиону, жалящему самого себя смертоносным хвостом?[14]
Здесь Бодлер отчаянно личный, однако приближается к универсальности. Он борется с парадоксами, которые затрагивают и разъяряют всех модерных людей, окутывают их политические отношения, экономическую деятельность, самые сокровенные желания и любое искусство, которое они создают. Этому отрывку присуще живое напряжение и возбужденность, они воспроизводят модерную среду, которая здесь описана; читатель, который доходит до конца, чувствует, будто он словно побывал где-то в другом месте. Вот на что похожи лучшие размышления Бодлера о модерности, известные куда меньше, чем пасторальные. Теперь мы готовы погрузиться в них.
Книга Маршалла Бермана «Все твердое растворяется в воздухе. Опыт модерности» продается в книжных, указанных на нашем сайте. Заказать ее с доставкой по России можно на OZON, в «Подписных изданиях», «Порядке слов» и других магазинах. Кроме того, ее можно прочитать на платформе Bookmate.
ПРИМЕЧАНИЯ
[1] Верлен П. Шарль Бодлер. / Пер. с фр. Е. Аль-Фарадж. // Иностранная литература, 2014, № 10.
[2] Цит. по Starkie E. Baudelaire. // New Directions. 1958. P. 530-531 на основе пересказа в парижской газете L’Etandard от 4 сентября 1867 г.
[3] Baudelaire C. Thе Painter of Modern Life, and Other Essays. / Transl. and ed. by J. Mayne. Phaidon, 1965. P. 1-5, 12-14. Издание снабжено обширными иллюстрациями.
[4] Hulten P. Modernolatry. Stockholm: Modena Musset, 1966; Stern F. The Politics of Cultural Despair: A Study in the Rise of the Germanic Ideology. University of California, 1961.
[5] Салон 1846 года. // Бодлер Ш. Об искусстве. М.: Искусство, 1986.
[6] Этот стереотип полно и некритично представлен в Graña C. Bohemian Versus Bourgeois. P. 90-124. Более сбалансированное и сложное повествование о Бодлере и буржуазии см. в Gay P. Art and Act. Harper & Row, 1976, особенно P. 88-92. См. также: Calinescu M. Faces of Modernity. P. 46-58, 86 et pass.
[7] Вера Бодлера в восприимчивость буржуазии к модерному искусству может быть следствием его знакомства с
[8] Поэт современной жизни. Интересный (и более благосклонный, нежели мой) анализ этого эссе см. в: De Man P. Literary History and Literary Modernity. // Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism. Oxford, 1961. Особенно P. 157-161. Критический взгляд, близкий к изложенному в настоящей книге, см. также в: Lefevbre H. Introduction à la modernité, гл. 7.
[9] Поэт современной жизни.
[10] Лучший рассказ о политических взглядах Бодлера в этот период см. в Clark T.J. The Absolute Bourgeois: Artists and Politics in France, 1848-51. New York Graphic Society, 1973, особенно P. 141-77. См. также Klein R. Some Notes on Baudelaire and Revolution. // Yale French Studies. №39. 1967. P. 85-97.
[11] О современном понимании прогресса применительно к изобразительному искусству.
[12] Там же.
[13] Салон 1859 года.
[14] Там же.
