Ник Ланд. Вытворяя это со смертью: заметки о Танатосе и желающем производстве
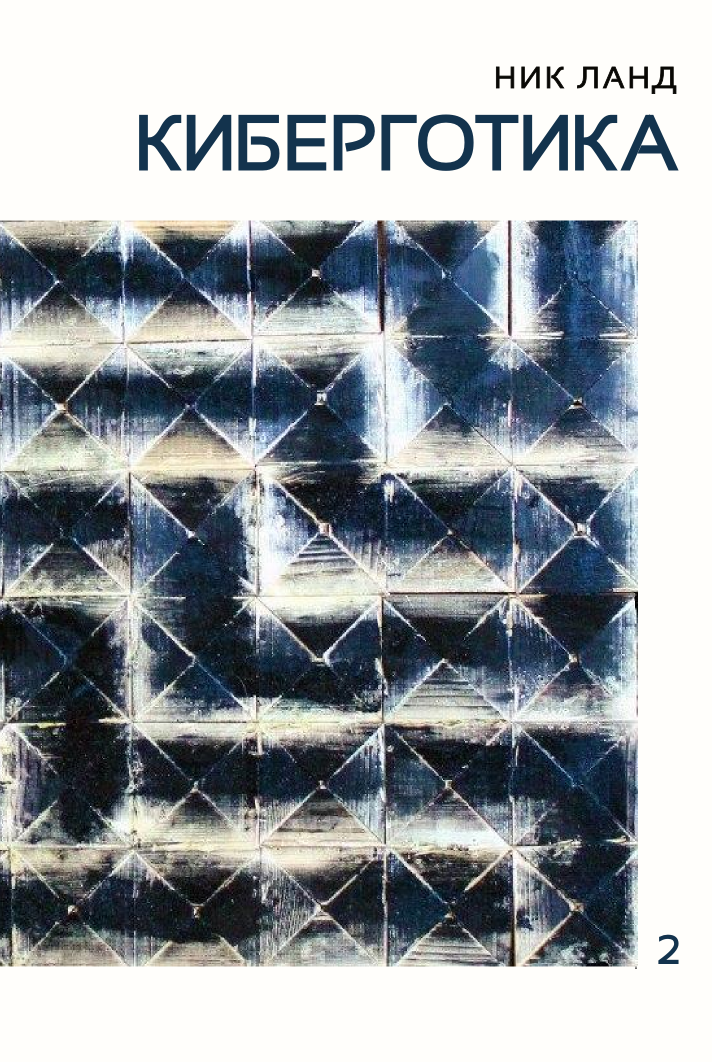
Во второй том сочинений английского философа и писателя Ника Ланда вошли работы, с которых началось его вторжение из будущего. В них Ланд отказывается от комментариев, более или менее укладывающихся в привычный историко-философский формат, и вместо этого обращается к
Публикуем первую, наиболее «академическую» статью из этого тома, посвященную антиэдиповской интерпретации фашизма и нацизма, влечению к смерти и критике делезианской мысли.
Вытворяя это со смертью: заметки о Танатосе и желающем производстве*
Если уж спасать Делёза от придурковатого либерального неокантианства, ныне считающегося во Франции философией, то следует пересобрать и углубить его генеалогию. Псевдоницшеанство, присущее реакции, возникшей в конце 1960-х против Гегеля, навряд ли подходящий контекст для столь значительного мыслителя; то же самое верно и в отношении его распри со структурализированным психоанализом. Вся мощь Делёза заключается в том обстоятельстве, что он преуспевал в отделении себя от парижской темпоральности куда больше, чем многие из его современников, включая даже Гваттари. Время делёзовского текста гораздо холоднее, гораздо рептильнее, гораздо более немецкое — либо, по крайней мере, антинемецкое в духе таких немцев, как Шопенгауэр и Ницше, глядевших на целые тысячелетия с пренебрежением. Во многом это лукрецианское или же спинозистское время, время безразличной природы; инженерное проектирование диких сцеплений на протяжении столетий.
I
Модерн «сущностно» реконструктивен — и в абстрактной последовательности своей производственной организации (капитал всегда неокапитал), и в отношении трансцендентальной динамики его превалирующего (кантианского) философского состояния. Критика принадлежит капиталу, поскольку это первая прогрессивная по своей сути теоретическая процедура, возникшая на поверхности Земли, избегающая одновременно и формального консерватизма индуктивного естествознания, и содержательного консерватизма догматической метафизики. В способе производства и способе рассуждения видно нескончаемое движение дерегуляции, стремящееся ко все более и более радикальному возвышению интеррогативного порыва. Разумеется, данный процесс имманентного высвобождения, как выразительно отмечают в своих трудах Делёз и Гваттари, сдерживается активной реконституцией архаических механизмов контроля — верований, машинерии государства, местечковых связей, неотрайбализмов, все более нелепого балагана властей, морали, браков и закладных.
Траектории современной философии намечаются в ответ на социальную и теоретическую ситуацию такого рода. Одно течение мысли, берущее начало у Шопенгауэра с Ницше и устремляющееся в вытесненные страты фрейдовских психоанализа и метапсихологии, вычерчивает возвращение базового созидательного импульса, задушенного теополитикой Запада. Другая волна, связанная в первую очередь с именем Гегеля, направляется подспудным идеалом спекулятивной пересборки политического вслед за Капиталом. Обе этих тенденции в конечном счете рвут в сторону посттрансцендентального мышления: в первом случае поляризованные различия между эмпирическим и его условиями оказываются растворенными в открытой иерархии интенсивных страт, во втором — абстрактная композиция полярности распадается в бесконечном самоузаконивании конкретного понятия. Третье течение — пожалуй, топографически наиболее запутанное и знаменуемое прежде всего именем Шеллинга — направляемо динамикой критики к завершению трансцендентальной программы: имманентная континуальность космологии Спинозы используется им вместо неисспрашиваемой добродетели логического тождества, унаследованного от Канта.
Делёз — мощнейший образчик трансцендентального спинозизма среди современных мыслителей. Деконструкция Деррида, пусть в конечном счете она и близка программно шизоанализу или генеалогической критике делёзианского толка, значительно ослабляется притоком неогуманистических тем, идущих от Хайдеггера через Кьеркегора с Гуссерлем и ожесточающих квазитеологический компромисс, от которого был далеко не свободен сам Шеллинг. Хайдеггер, хоть он и поощряет более презренные регионалистские и идеалистические элементы своего наследия, с рвением стирает влияние Спинозы, академизируя и денатурализируя мысль о безличной основе, или Indifferenz. Как Делёз, так и Деррида критикуют нелегитимную артикуляцию, — вот только первый стремится к материализму потребления, высвобождающему интенсивную субстанцию из паралича в экстенсивности, тогда как второй предается иудейской медитации, испещренной теографизмами, неопределенно радикализируя антииконическое отношение к абсолюту. Deus sive natura — вовсе не тождество, а включающая дизъюнкция; Спиноза-исчезающий-еврей либо Спиноза-взрывной-психотик — деконструкция либо шизоанализ.
Если деконструкция приводится в движение капиталом и его все более эфемерными добродетелями, то шизоанализ направляем своей барахольствующей беспощадностью. «Всегда рекодируйте! — велит нам текст деконструкции. — Только всякий раз куда тоньше, гораздо неуловимей; чем дальше, тем больше затягивая самопародию закона». «О, всегда декодируйте, — дребезжит шизоанализ. — Не верьте ничему и избавьтесь от ностальгии по принадлежности!» Всегда спрашивайте, где капитал наиболее бесчеловечен, асентиментален и бесконтролен. Отбросьте всякую привязанность к государству. Вовсе не социальный менеджеризм Гегеля наиболее отстоит от делёзианского номадизма: гегельянство всегда было лишь черным юмором модерной истории. Нет, скорее уж
Капитал не может откреститься от шизоанализа без того, чтобы при этом не утратить свой оскал (de-fanging). Ведь безумие, от которого он отмахнется, составляет единственный источник его будущего — предел десоциализированного экспериментирования, что разъедает его сущность и предупреждающе высмеивает всю полноту уже существующих модусов цивилизованности. Реальная энергетическая вольность, которая уничтожает пленение священником человеческой свободы, отклоняется на уровне политического вторичного процесса именно тогда, когда первичный экономический процесс еще глубже пускается в ее объятья. Тайна капитала-как-процесса состоит в его несоизмеримости с задачей сохранения буржуазной цивилизации, — цивилизации, вскакивающей на него, как карлик на дракона. По мере «развития» капитала все более и более абсурдная рационализация производства-ради-прибыли отслаивается, подобно дешевой облицовке, детонированием петли обратной связи производства-ради-производства.
Если капитал — общественная машина суицида, то лишь потому, что он сам благоприятствует своим убийцам, производя на свет первую социальность, в рамках которой pouvoir господства постоянно подвергается рискам экспериментальной puissance**. Лишь благодаря интенсификации невротических привязанностей ему удается утаить извержение безумия в своей инфраструктуре, однако с каждым годом привязанности эти становятся все более отчаянными, двуличными и хрупкими. И все это лишь к тому, чтобы был поставлен вопрос о пресловутой «смерти капитализма», рассматриваемый как дело опасения или же надежды, скептицизма или веры. Капитал, как нам говорят, или выживет, или нет.
Такая проективная эсхатология упускает из виду главное, а именно — смерть вовсе не внешняя возможность для капитала, а его внутренняя функция. Смерть капитала не пророчество, а машинная доля. Имманентное сладострастие каждой беспрецедентной сделки вытекает из конца буржуазии. Взять хотя бы употребление кокаина финансистами: сразу и количественный приход, выписывающий отклонение от нуля, и контролируемая трата, сводящая на нет исторический смысл богатства. Обнюханный фьючерсный делец бредет в опьянении по улице Манхэттена, переводя саму судьбу классового различия в имманентную интенсивность, отслеживаемую прямо на гладкой поверхности социального исчезновения. Бомж населяет социальный ноль, предпочитаемый капиталом в качестве точки схода домодерной легальности, исходя из которой кокаиновый раж отбрасывается как анонимное отстояние от смерти. Имеется становление богатым бомжом, становление изгоем на коксе — все это неотъемлемая часть цинизма передового капитала. Таков «опережающий» модернизм Беккета, в котором высокая культура, имманентно отличенная от неартикулированности, избавлялась от онтологической конкретизации. А значит, есть становление-зомби бомжа, так же как и есть становление-торкнутыми реальных управленцев социума, — обдолбанный жилмассив как основная дорожка для возгонки на площадке фондового рынка. Было бы нелепо утверждать, что финансисты-яппи забыли о депривации, коль скоро предельное забвение абсолютной пролетаризации потребляется ими с каждым пузырьком шампанского.
Все слышали о гуманистической реакции на это становление-зомби на пределе возможности современного работника, — реакции, что связана прежде всего со словом «отчуждение». Процессы деквалификации и даже ускоренной реквалификации, подмена ремесла абстрактным трудом, растущая заменимость человеческой деятельности технологическими процессами, — то есть все те процессы, которые сопровождаются растворением идентичности, потерей чувства привязанности и наркотизацией аффективной жизни, — порицаются на основании моральной критики. В ее воображении рисуется великое пробуждение политического, нацеленное на восстановление утраченной человеком цельности. Современное существование рассматривается как в корне умерщвленное — по причине реального подчинения человеческих ценностей [силе] безличной продуктивности, которая в свою очередь понимается как выражение мертвого или окостеневшего труда, проявляющего свою вампирскую власть над жизнью. Обескровленный зомбиподобный пролетарий должен быть реанимирован политтерапевтом, идеологически исцелен от нечестивой любви к нежити и привязан к новой вечной жизни общественного воспроизводства. Смертельное ядро капитала мыслится в качестве объекта критики.
Делёз начисто отделяет себя от социалистического гуманизма подобного рода, поскольку в программе шизоанализа смерть представляется безличным субъектом критики, а вовсе не проклятой ценностью на службе у порицания. О том свидетельствует затейливый пассаж в конце «Анти-Эдипа»:
Тело без органов является образцом смерти. Как хорошо поняли авторы фильмов ужасов, не смерть служит образцом кататонии, а кататоническая шизофрения наделяет смерть собственным образцом. Нуль-интенсивность. Образец смерти проявляется, когда тело без органов отталкивает и оставляет органы — никакого рта, никакого языка, никаких зубов… вплоть до самокалечения, до самоубийства. И все же нет реальной противоположности тела без органов и органов как частичных объектов — реально они противопоставлены только организму, который является их общим врагом. В желающей машине виден тот же кататоник, вдохновленный неподвижным двигателем, который принуждает его оставить свои органы, обездвижить их, их утихомирить, но он же подталкивается рабочими деталями, которые в этом случае функционируют автономно или стереотипно, к тому, чтобы их реактивировать, вдохнуть в них локальное движение. Речь идет о различных деталях машины — различных и сосуществующих, различных в самом их сосуществовании. Поэтому абсурдно говорить о желании смерти, которое качественно противоставлялось бы желанию жизни. Смерть не желается, есть только смерть, которая желает, — в качестве тела без органов или неподвижного двигателя, и есть также жизнь, которая желает, — в качестве рабочих органов [1. С. 518].
Таким образом, вовсе не рабочий превращается в процессе лишений в зомби, но первичное производство мигрирует от личностности в сторону нуля, населяя пустыню в конце нашего мира. На данном этапе важно заметить, что Спиноза преобразует смысл пустынной религии: речь идет не о религии, произошедшей из пустыни, но о пустыне в самом сердце религии. Субстанция Спинозы — это пустынный Бог. Бог в качестве безличного нуля, в качестве смерти, что остается бессознательным субъектом производства. В спинозовских рамках Бог мертв в том лишь смысле, что является исходным состоянием зомби-становлений, — тем, что Делёз называет «планом консистентности», описываемым в «Тысяче плато» фразой «плавление как бесконечный ноль» [2. С. 263]. На плане консистентности никак не разберешь между телами без органов и телом без органов, между машинами и машиной. Между машинами всегда имеется сцепление, обуславливающее их реальное различие, причем все сцепления имманентны макромашине. Машины производят свою тотальность рядом с собой в качестве недифференцированного или сообщенного элемента, некоего становления неким кататоническим Богом, прорывающегося как опухоль из пресубстанциализированной материи, — через которого природа извергает смерть, прилегающую к ней.
Практически с неизбежностью вытекает, что материя тела без органов и материя Спинозы суть одно. Как нас убеждают в «Анти-Эдипе»:
Тело без органов — это материя, которая всегда заполняет пространство сообразно той или иной степени интенсивности, а частичные объекты — как раз и есть эти степени, эти интенсивные части, которые производят реальное в пространстве, начиная с материи как интенсивности, равной 0. Тело без органов является имманентной субстанцией в спинозовском смысле этого слова, а частичные объекты — это как его предельные атрибуты, которые принадлежат ему именно в том качестве, в каком они реально различены и потому не могут исключать друг друга или противопоставляться друг другу [1. С. 514].
И в «Тысяче плато»:
В конце концов, не является ли «Этика» [Спинозы] великой книгой о ТбО? Атрибуты — это типы или роды ТбО, субстанции, могущества, Нулевые интенсивности как продуктивные матрицы. Модусы — все то, что происходит: волны и вибрации, миграции, пороги и градиенты, продуктивные интенсивности в том или ином субстанциальном типе, начиная с данной матрицы [2. С. 255].
Данные замечания очевидным образом служат дополнением к другим [ремаркам] в ключевых для шизоанализа текстах, равно как и пространные обсуждения Спинозы в двух книгах Делёза, посвященных жизни и произведениям Спинозы, равно как и множество комментариев в других сочинениях. В «Ницше и философии», к примеру, Делёз выделяет Спинозу как единственного нововременного предвестника Ницше — в замечании, столь же важном для понимания мысли Делёза, сколь и не
Имя «тело без органов» само по себе достаточная разгадка того, что же, собственно, на кону в мышлении, а именно — реальности абстракции. Тело без органов — абстракция, не являющаяся в то же время достижением разума. Это трансцендентальная пустыня первичного производства или же воспроизводство производства как континуума максимума безразличности. В «Анти-Эдипе» оно описывается как «само непроизводительное, стерильное, непорожденное, непотребляемое» [1. С. 22]. Если на то пошло, что должно было бы сгореть, чтобы спинозовскому Богу-или-Природе был нанесен вред? Что могло бы быть создано, чтобы он возликовал? Ничего. Плодородие и разъедание модулируют субстанцию вне своего воздействия на нее, беспристрастно претворяя в свет ее ледяные пермутации. Какова бы ни была у нее эмпирическая конфигурация, всегда и вновь есть производство как таковое — бессмысленное роскошество безличного.
Реальная абстракция — трансцендентальная концепция спинозистской субстанции. Уже с приходом делёзовских текстов конца 1960-х — особенно с появлением на свет «Различия и повторения» — заметен последовательный философский проект, наиболее точно описываемый как трансцендентальный спинозизм, или же критика тождества. Отчасти подобно Шеллингу, но без очевидного прямого влияния Делёз очарован натуралистическим базисом мышления Спинозы, однако при этом он замечает в нем недостаток эксплицитного трансцендентального понимания тождества. Делёзовский ответ, как всегда, великодушен: контрабандой он провозит в философию Спинозы искомую «машинную» часть, притворяясь, будто она и так была там.
Критика работает, проводя различие между объектами и их условиями, схватывая метафизику как введение процедур, приспособленных к объектам, в рассмотрение их конститутивных принципов. Что означает — критика главным образом есть философия производства, которая выделяет генетическое или же дообъектное из дискурса; она занимается конститутивными отношениями, то есть синтезами.
В элементарном положении тождества А = А вопрос трансцендентальной интерпретации остается открытым. Репрезентирует ли «А» объект некоторого рода, будь то возможный, идеальный, формальный и так далее? Или же им обозначается тождество как таковое, как некий обуславливающий принцип? В первом случае отношение тождества оказывается внешним, с неявным основанием, тогда как во втором случае связь с возможным объектом проблематична. Критический вопрос остается без ответа: как
Обычно тождество рассматривается как абсолютно абстрактная сущность или же, соответствующим образом, как конечный принцип интеллигибельности. Обе формулировки соотносятся с чисто логическим субъектом в преддверии предикации. Нечто есть то, что оно есть. Сущность понимается, по крайней мере имплицитно, по лекалам платоновского Эйдоса, безвременной истины или чистой возможности вещи — непроизведенной, стерильной, непорожденной. Тем самым традиционная концепция сущности сливает воедино специфичность и тождество, поэтому силлогизм функционирует исходя из родовых иерархий сущности или типа, что находит свое завершение в логической теории множеств. От Аристотеля до Канта разум прилаживается к мысли о «той же самой вещи», ничуть не подозревая, что он смешивает трансцендентальную тему с эмпирической. Тело без органов — вот реальная дифференциация тем: то-же-самое раз-веществляет себя.
Поразительная философская строгость проявляет себя в бредовых словах Арто, цитируемых на первых страницах «Анти-Эдипа»:
Тело — это тело
оно одно
ему не нужен орган
тело никогда не бывает организмом
организмы — враги тела [цит. по: 1. С. 24]
Здесь нам представлено суждение о тождестве исторически аномального типа. Тело — это тело, но только как отталкивание органов, или «вытягивание» того-же-самого из
Реальность тождества — смерть: вот поэтому организм никак не может сосуществовать с тем, что он есть. На гладкой поверхности тела без органов «что» и «есть» аллергически отскакивают друг от друга, раскрывая тем самым включающую дизъюнкцию в сердцевине сущности. Эта дизъюнкция отделяет полюс тождества тела без органов от бесконтрольного различия детерриторизованных органов, распарывая объективизм, который встраивает эмпирическое тождество в устоявшиеся конфигурации различия. Докритический объективизм мыслит синтезы по лекалам их следствий, что может быть описано как трансцендентное или незаконное их применение. Там, где Кант пишет о «законности» или «незаконности», в шизоаналитических текстах прочитывается «молекулярное» или «молярное». Стало быть, тело без органов описывается в этих текстах как «гигантская молекула» [1. С. 442], а организм всегда представляет из себя молярный конструкт: вписывание тождества в специфичность.
Смерть тоже расщепляется вдоль линии этой трещины: с одной стороны, она предстает как пустынное тождество различия, как кататонический провал абсолютной критики по истечении капитала, с другой — в качестве молярного объекта негативно конституированного желания, реинвестирующего интенсивный ноль в общественный порядок. Относительная молекуляризация молярной смерти в «Анти-Эдипе» описывается следующим образом:
Фрейд сам ясно обозначил связь своего «открытия» инстинкта смерти с войной 1914–1918 годов, которая остается образцовой капиталистической войной. В более общем смысле инстинкт смерти знаменует свадьбу психоанализа и капитализма, тогда как раньше это была только ненадежная помолвка. Разбираясь с капитализмом, мы попытались показать, как он унаследовал смертоносную трансцендентную инстанцию — деспотическое означающее, заставляя его при этом распространяться по всей имманентности своей собственной системы: полное тело, ставшее телом капитала-денег, подавляет различие производства и антипроизводства; оно везде примешивает антипроизводство к производящим силам в имманентном воспроизводстве своих собственных постоянно расширяющихся пределов (в аксиоматике). Предприятие смерти — это одна из главных и специфичных форм поглощения прибавочной стоимости в капитализме. Это направление как раз и обнаруживается психоанализом, преобразовываясь инстинктом смерти… [1. С. 527]
Что отделяет реинвестированное антипроизводство капиталистической войны от абсолютного отталкивания тела без органов, так это финальное растворение смерти в ее функции. До сих пор это вопрос критики потребления, раз капитал — исторически конкретное незаконное использование конъюнктивного синтеза. Значит, производство эквивалентности идет под гнетом докритического или сегрегированного тождества капитала. Он упорствует, оккупируя пространство трансцендентального условия производства и тем самым закрепляя молярный порядок общественного производства. Предел капитала — точка, в которой трансцендентное тождество преломляется, где то-же-самое — не что иное, как абсолютно абстрактное и крайне пластичное воспроизводство различия, произведенное наряду с различием. Дело не в том, что различие также должно обладать тождеством, просто насыщенность составляет тождество различия и ничего больше. Различие имеет не трансцендентную сущность, но только имманентный план консистентности без лежащего под ним основания.
II
Анти-эдиповская интерпретация фашизма, несомненно, груба, однако обладает чрезвычайной силой. Дизъюнкция революция/фашизм используется для различения более общих тенденций детерриторизации и ретерриторизации — растворения и переучреждения социального порядка. Революционное желание соединяется с молекулярной смертью, препятствуя организму и содействуя несдерживаемым производительным потокам, в то время как фашистское желание инвестирует молярную смерть, распределяемую означающим, жестко сегментируя процесс производства согласно границам трансцендентных идентичностей. Такая беспоповская и безгрешная политика, колеблющаяся в диапазоне от Спинозы до Райха, разрабатывается далее Клаусом Тевеляйтом, чье двухтомное исследование национал-социализма в «Мужских фантазиях» — несмотря на всю свою теоретическую наивность — является апогеем шизоаналитического антифашизма.
Тождественность революционной и антифашистской политик состоит в их сопротивлении по отношению к молярной проекции капиталом его смерти. Все предположительно чуждые источники беспорядка, которые представляются капиталом в качестве экстериорности его уничтожения, такие как беспокойство рабочего класса, феминизм, наркотики, расовая миграция и распад семьи, по сути, необходимы для его собственного развития как атрибуты субстанции. Задача революции состоит не в установлении более значимой, аутентичной и аскетичной экстериорности, а в распаковке невротических механизмов отказа, отделяющих капитал от его собственного безумия, что вовлекло бы его в процесс перекрытия путей своего отступления и уговорило на инвестирование детерриторизованной грани, которая в ином случае стала бы жертвой фашистского преследования. Шизополитика — это удерживание капитала в имманентном сосуществовании с его уничтожением.
Позиция 1972 года становится весьма проблематичной в 1980-м вместе с появлением «Тысячи плато». По сравнению с «Анти-Эдипом» здесь нам видна грандиозная перемена в вынесении диагноза национал-социализму: не подпадая под общую категорию фашизма, он удостаивается более конкретного анализа. Это превращение неизбежно вытекает из интуиции — отчасти заимствованной у Вирильо, — согласно которой фашизм движим императивом к общественному порядку под молярным господством государства, тогда как
ТбО — это желание, это то, что и посредством чего мы желаем. И не только потому, что оно является планом консистенции или полем имманентности желания; но даже когда оно падает в пустоту брутальной дестратификации или в пролиферацию злокачественной страты, оно остается желанием. Желание идет дальше — порой желать собственного уничтожения, порой желать того, что обладает властью уничтожать [2. С. 274].
Политика «Анти-Эдипа», связанная с молекулярным процессом растворения, вытекающим из безличного энергетического ядра капитала, оказывается под угрозой семейной невротизации. В конечном итоге именно такова современная цитадель Эдипа: если ты не будешь повиноваться папочке, ты станешь нациком. Привяжешь себя к молярным агрегатам — станешь как Муссолини, привяжешь же себя к необузданным молекулярным потокам — станешь и вовсе как Гитлер. Историческое влияние этого эдипального использования эпизода национал-социализма и, в частности, — конечно — Холокоста, едва ли может быть переоценено. Мораль стала вкрадчивым шепотом торжествующего священника: «Держи желание за семью замками, потому что на деле ты хочешь геноцида». Как только она принята, больше нет предела возрождению предписывающих [правила] неоархаизмов, потихоньку вползающих обратно в качестве оплота против солдафонского бессознательного: либеральный гуманизм, пресное язычество, и даже смердящие останки иудео-христианского морализма — все приветствуются до тех пор, пока они ненавидят желание и насаждают по полицаю в головы людей.
Любая политика — стоит ей только стать полицейской, утрачивает всякий шизоаналитический импульс, — скатывается к унылому реформированию в угоду заинтересованным лицам, — реформированию, характеризующему лояльную оппозицию капиталу на протяжении всей его истории. Детерриторизация оказывается под сомнением, инакомыслие начинает служить делу возрождения моральной цензуры, занимая позицию обвинения. Именно поэтому, господствовавший в социализме, начиная с его рождения, шутовской пакт между предсознанием и
На всем протяжении «Тысячи плато» нам встречаются предостережения касательно опрометчивой детерриторизации. На страницах эссе «Как сделаться телом без органов?» подряд идут три типичных примера:
Мы не достигнем ТбО и его плана консистенции, дико дестратифицируя [2. С. 267].
Самое худшее… вовлечь страты в суицидальное крушение или безумие, вынуждающее их вновь навалиться на нас — тяжелее, чем когда-либо [2. Там же].
…тело без органов, которое разрушило бы все страты, тут же превратилось бы в тело небытия, чистое самоуничтожение, чьим единственным исходом является смерть [2. С. 270].
Не совсем ясно, где же здесь разрыв с Фрейдом. Достигает ли влечение к смерти апофеоза в нацизме (это означало бы, что либидинальная динамика Второй мировой войны соизмерима с динамикой Первой)? Это кажется неправдоподобным по многим причинам, в том числе и потому, что тогда развитой капиталистический милитаризм превзошел бы фашизм. Не может ли так быть, что желание нацистов идет дальше реинвестируемого танатоса, следствия пакта психоанализа с капиталом, — до той точки, где оно коварно симулирует трансцендентальную рецессию тела без органов? Есть соблазн предположить, что искажения, требуемые подобной мыслью, обнажают поспешность в прочтении танатоса 1972-го, который и в 1980-м называется «смехотворным инстинктом смерти» [2. С. 257]. Если к 1980-му выбор стоит между подчинением парализующему неврозу после Холокоста — последнего и самого сокрушительного тайного оружия Гитлера — и переосмыслением фрейдовского танатоса, быть может, настала наконец пора выступить против того, что казалось ранее лишь комично раздутой антипатией к Фрейду. Для начала стоило бы спросить: разве Фрейд как-либо фигурировал в «Анти-Эдипе»? Разве не Лакан, который уже успел превратить дикие джунгли психоанализа в структуралистскую парковку до того, как начал анализировать Гваттари в течение семи лет, стоит за предполагаемым антифрейдизмом книги? Конечно, Эдипа обычно тошнит венской больничной кашей, но где же Эдип в «По ту сторону принципа удовольствия»? То же можно спросить о большинстве текстов Фрейда. Именно Лакан настаивает на эдипизации игры fort-da [прочь-тут — фр.], в общем процессе эдипизируя желание вплоть до его оснований, избавляясь от энергии, гидравлики, патологии и всего шокирующего у Фрейда, подменяя их нехваткой, пафосом тождественности и хайдеггеровской помпезностью, углубляя роль фаллоса и тривиализируя желание до раболепного желания быть любимым. Естественно, у Фрейда имеется невротическая и конформистская страты, однако держатся они над безличными потоками желания, извергающимися из травматизированной природы. Где такие потоки у Лакана? Вряд ли найдешь что-либо кроме потоков угловатого постсоссюрианского фетиша означающего, господствующего в его текстах. Оценка Лакана в качестве представителя тенденции шизофренизации в психоанализе — наиболее абсурдное утверждение в работе Делёза и Гваттари. К 1980 году оно перестало быть шуткой.
Влечение к смерти — это не желание смерти, однако скорее гидравлическая тенденция к рассыпанию интенсивностей. В своей первичной динамике оно крайне чуждо всему человеческому, по меньшей мере — трем величайшим низостям репрезентации, эгоизма и ненависти. Влечение к смерти — это прекраснейшее объяснение Фрейдом того, как креативность возникает без малейших усилий, как жизнь движут к ее излишествам самые слепые и простейшие тенденции, как желание оказывается проблематичным не больше, чем поиск моря рекой.
Гипотеза влечений к самосохранению, которые приписываются живым существам, составляет явную противоположность представлению о том, что жизнь влечений в общем и целом служит привнесению смерти. В подобном свете теоретическое значение влечений к самосохранению, власти и престижу резко уменьшается. Это лишь составляющие более общего влечения, функция которых состоит в убеждении, что организм проследует по своему пути к смерти, и недопущении всех тех способов возвращения к неорганическому существованию, что не являются для него имманентными. Мы более не можем считаться с причудливым определением организма как поддержания собственного существования перед лицом любой трудности, поскольку оно с трудом встраивается в рассматриваемые нами контексты. Мы всё более убеждаемся в том, что организм хочет умереть своим способом. Стражи жизни всегда были приспешниками смерти. Отсюда возникает парадоксальная ситуация: наиболее энергично организм борется против событий (опасностей), которые способны помочь жизни достичь своей цели, посредством некоего рода короткого замыкания. И все же таковы признаки поведения, основанного исключительно на влечениях, в противовес тому, что базируется на интеллектуальных стремлениях [3. P. 312].
Что если спросить не «как сделаться телом без органов?», но «как сделаться нацистом?» Ведь это требует гораздо больше усилий, чем предполагает диагноз 1980 года.
1) Где бы ни были безличность и случайность, вводи заговор, ясность и умысел. Ищи врагов повсюду, убеждаясь при этом, что мог бы одновременно завидовать им и презирать их. Размножай новые субъективности: расовые и национальные субъекты, элиты, тайные общества, судьбы.
2) Сожги Фрейда и верни желание к кантовской концепции воли. Представляй всякий порыв как выбор, решение, превращая все происходящее в театральную драму волевых актов. Вводи угрюмый дух гнетущей ответственности, излагая все дискурсы в форме долженствования.
3) Почитай принцип великого индивида. Персонализируй и мифологизируй все исторические процессы. Люби послушание превыше всего и приходи в восторг лишь от знаков — от имени вождя и символа движения, от всех икон молярной идентичности.
4) Лелей ностальгию ко всему медлительному, жесткому и стагнирующему — к линии расово чистых крестьян, возделывающих один и тот же участок земли целую вечность.
5) А главное, возмущайся порывистостью и безответственностью, настаивай на неослабеваемой бдительности, запри сексуальность в репродуктивной функции, жестко осуществляй доместикацию женщин, не доверяй искусству, классицизируй города, дабы избавиться от беспорядка внеконтрольных потоков и преследуй все меньшинства, выказывающие номадическую тенденцию.
Попытки не быть нацистом приближают к нацизму куда радикальнее, чем любая безответственная поспешность в дестратификации. Нацизм даже может быть охарактеризован как чистая политика усилия; абсолютный бастион коллективного Сверх-Я в его уничтожающей строгости. Было бы политической катастрофой упрекать нацизм в аморальности: нацизм и есть мораль, наследник всей уважаемой истории Европы — сожжения ведьм, инквизиций и погромов. Хотеть быть на правой стороне — общий субстрат морали и реакции геноцида; как раз это желание подавления, организуемого разочарованным взглядом отца, «Анти-Эдип» и анализирует с такой силой. Можно ли вообразить себе нацизм без папочки? И можно ли себе представить, что папочка уже предвосхищается в энергетическом бессознательном?
Смерть слишком проста, слишком текуча, чересчур презрительна к расам и фатерляндам, чтобы иметь нечто общее с нацистами. Ресентимент — вот что их на самом деле влекло, как демонстрирует стремление к мифической жертве, Götterdämmerung [закат богов — нем.], которая вписала бы их в анналы истории, но все это никогда не дотягивало до желания растворения. Ведь потеряешь контроль — можешь кончить тем, что начнешь трахаться с евреем, изнежишься или сотворишь некое дегенеративное произведение искусства. Неужели кто-то считает, будто нацизм можно делать на расслабоне? Исследования телесных поз нацистов Тевеляйтом достаточно для того, чтобы развеять этот абсурд. Нацизм может заставить тебя окоченеть еще до того, как тебя грязно склонят к смерти
Либидинальный материализм потребления отличается безразличием к категории работы. Где бы ни были труд или борьба, всегда есть подавление сырой креативности, которая оказывается атеологическим смыслом материи и которая —
Перевод с английского Артема Морозова
Примечания
* Первая публикация: Making It with Death // Journal of the British Society for Phenomenology. 1993. Vol. 24. № 1. P. 66–76. Перевод выполнен по изданию: Making It with Death // Fanged Noumena: Collected Writings 1987–2007 / R. Mackay and R. Brassier (eds). Falmouth, UK ; N.Y. : Urbanomic, Sequence Press, 2011. P. 261–288. — Прим. пер.
** Во французском языке оба слова — pouvoir и puissance — обладают сходным значением силы, но только первое преимущественно в политическом смысле власти и господства, тогда как второе в отношении физического тела (мощь, способность). Второе также используется как перевод спинозовского термина potentia. Различие терминов важно в контексте творчества Делёза и Гваттари. — Прим. пер.
*** В английском переводе речь шла о том, что машина войны более не имела войну в качестве цели. — Прим. пер.
Библиография
1. Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / пер. с фр. Д. Кралечкина. Екб. : У-Фактория, 2008.
2. Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения / пер. с фр. Я. Свирского. Екб. : У-Фактория; М. : Астрель, 2010.
3. Freud S. On Metapsychology: The Theory of Psychoanalysis // Penguin Freud Library. Harmondsworth : Penguin, 1984. Vol. 11.
