Игорь Гулин. О войне, насилии, власти и русской культуре
Литератор, критик и исследователь Игорь Гулин осмысляет наступившую после начала войны немоту, рассуждает об отношениях власти и культуры и задает вопрос о техниках обновления последней.
Английскую версию текста читайте на сайте и-флакс / Read english version of the text on e-flux
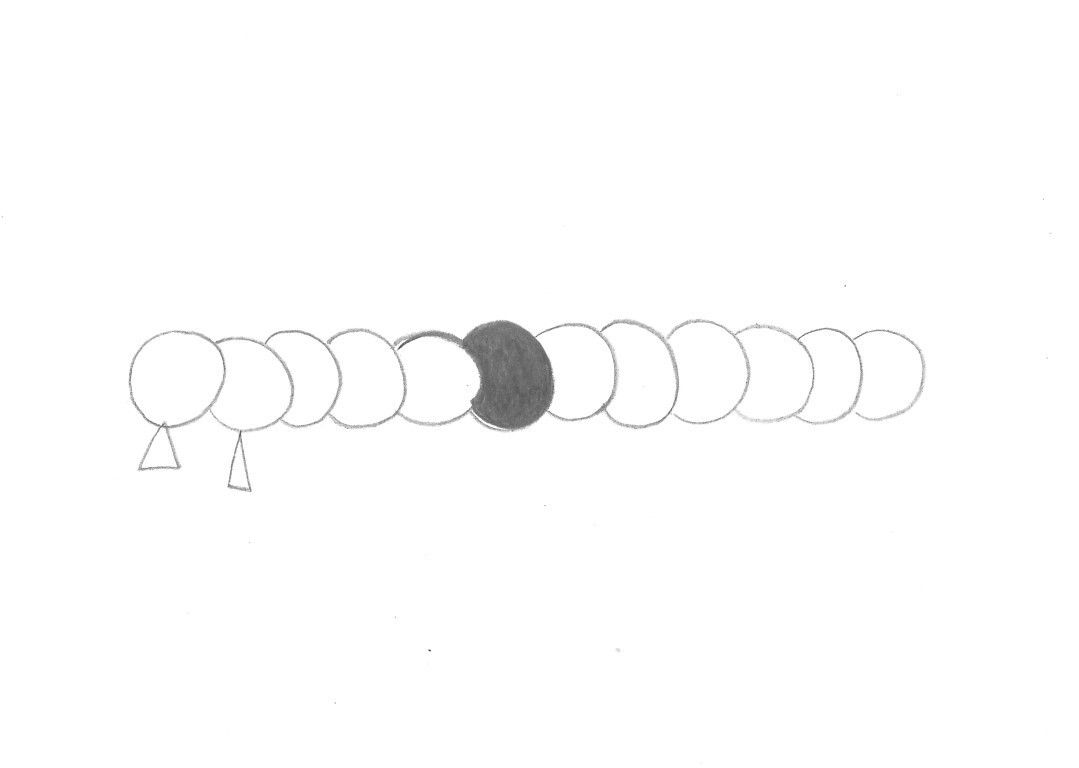
С началом войны наступила немота. Я почти ничего не мог написать о событиях, не мог комментировать, и даже ставить лайки было сложно. Сейчас мне показалось, что единственный выход — сказать что-то об этой немоте.
Моя жизнь крепко связана с русской и советской культурой, у меня мало что есть кроме этого. Разговоры о ее конце цепляют глаз. От них хочется отмахнуться, потому что ну какая культура — это настолько неважно на фоне смертей. Но отмахнуться не получается, они слишком настойчивы и переходят во внутренний монолог.
Все основные позиции здесь выглядят глупо: и (1) русской культуры больше не существует, и (2) великая культура переживет неурядицы, искусство и государство — вещи принципиально раздельные, (3) предложения о ревизии — необходимости отделить в русской культуре эмансипаторное от властного, деколониальное от имперского. Первая позиция мне понятнее и эмоционально ближе всего. Я тоже чувствую этот крах, абсолютный провал всех ставок, обессмысливание прошлой и возможной в будущем работы. Но простое перечеркивание означает отказ от рефлексии. Это, может быть, самая честная реакция на боль, но, кажется, ничего не дающая. Вторая позиция кажется просто успокоительной мантрой. Третья — самая сложная, и я к ней вернусь позже.
*
В. постоянно спрашивает меня, почему для нас — то есть меня и людей, думающих примерно как я, — происходящее сейчас ощущается как катастрофа, не сравнимая ни с чем, что мы видели и о чем знали? В чем принципиальная разница Бучи и, скажем, Чечни? Я много думаю об этом.
Есть важное различие в интенсивности переживания. Наверное, ни для одного из прошлых поколений кошмар войны не был настолько крепко вплетен в ткань жизни благодаря медиуму — прежде всего, телеграму. Это не газета, которую можно отложить, телевизор, который можно выключить — новости идут в том же окне, что повседневная коммуникация, поэтому о них невозможно забыть. Но важнее другое, и это другое связано с культурой.
Война деконструировала нас самих — “русских интеллектуалов”, “креативный класс” — обнаружив нашу общую территорию с режимом. Мы знали, что государство производит военное насилие — в Чечне, в Сирии, много где, что тем же занимаются и другие государства. Но это было насилие над иными. Оно от этого не становилось приемлемым, но становилось понятным. Насилие в Украине отличается тем, что это насилие против таких же — говорящих на том же или очень похожем языке, выглядящих совсем так же, в конце концов — наших друзей, знакомых и родственников.
Так падают антропологические предохранители, обнаруживающие в нас тех самых белых людей, для которых люди равны, но не совсем. Различия структурируют мир, и делают его — в самых мерзких его проявлениях — удобоваримым. Когда такие различия падают, то что вроде бы было здесь всегда — готовность человека к зверству, а государства — к предельному цинизму — становится шоком. Высвобождается насилие в предельной форме.
Спецоперация легко описывается как пресловутый кризис обезразличивания по Жирару. Официальная риторика утверждает отсутствие украинцев как нации и одновременно обличает их как нацистов — то есть сверх-нацию. Противника не удается сконструировать — он одновременно сверх-реальный и несуществующий. Нет таких различий, которыми насилие можно было бы обосновать. Поэтому дискурс о денацификации сразу же схлопывается и гротескным образом зеркалится в буквы z. Поэтому война выглядит настолько абсурдно. Все символическое, способное придать действиям государства вид хоть какой-то консистентности — не законности, не порядочности — но соответствия какому-то, сколь угодно несправедливому порядку — рассыпаются, образуют пространство чистого бреда.
Тот шок, который мы испытываем, это не только шок от насилия зверского, но еще шок от насилия, будто бы не мотивированного ничем, кроме самого себя. И этот шок работает как спадание покрова — он говорит о том, сколько другого, рационализируемого насилия мы готовы были принять — не одобрить, но принять в свою картину мира. И конечно, этот шок переворачивает чувство истории, потому что история — не целиком, но отчасти — это история чем-то мотивированного насилия. Для тех, чья жизнь крепко связана с культурой — этот шок переворачивает культуру, свидетельствующую историю и питающуюся ей.
*
На прошлой неделе, готовясь к разговору с философом Иваном Болдыревым, я перечитывал «О понятии истории» Беньямина, и вновь вспомнил его фразу: каждый документ культуры является одновременно документом варварства — мысль, сильно повлиявшую на меня и отчетливо резонирующую с разговором об отмене русской культуры, что идет сейчас. Колониальная и гендерная оптика — при всей моей нелюбви к их фетишизации — много дают для расширения понимания этого варварства.
Я думаю, что в культуре невозможно отделить чистое от нечистого, эксплуататорское от эмансипаторного, имперское от субалтерного — Некрасова от Тютчева, другого Некрасова от, скажем, Кочетова, Тарковского от Михалкова. Во всех эпохах, стилях, авторах и произведениях есть и то и другое. В больших авторах они часто сплетаются в неразличимый клубок (недавняя книга Глеба Морева о Мандельштаме тут отличная иллюстрация).
Из русской культуры не вычистить имперскость, потому что такова ее природа. Почти каждое предельно частное высказывание в ней держится особым отношением, напряжением к этому большому имперскому масштабу. Культура советского андеграунда, к которой часто апеллируют те, кто говорят о необходимости ревизии, переживает это напряжение особенно остро. Пусть это напряжение критики, но критика не значит избавление. Точно так же из культуры не вычистить насилия. Та же культура андеграунда — это агрессивно-мачисткая культура. Это не значит, что в ней нет освободительного потенциала — он огромен. Но не тотален.
Я думаю, что громкие призывы к разделению добра и зла — в культуре или в политике — почти всегда лицемерны и часто саморазоблачительны (хочется указать на недавний цирк с участием Р.А. и Д.К., но это чересчур междусобойные дела литературного сообщества, чтобы говорить о них подробно). Поэтому же мне кажется, что настоящая любовь к культуре требует не разделять, а видеть эту неразделимость. Не обязательно оправдывать ее, но пытаться понять (тут возможен другой грех, в котором я безусловно повинен — слишком уж любоваться амбивалентностью, неразрешимостью как проявлением сложности).
Так же устроено чувство причастности к истории. В ней невозможно отделить восхищение от ужаса, гордость от позора. Если ты переживаешь историю как свою родину, то ты знаешь, что в твоих венах течет в равной мере и кровь убитых, и кровь убивавших (извините за правую метафору). Это не значит, что на тебе лежит вина, но значит, что ты не можешь сбросить эту боль и неразрешимость со счетов. Не думаю, что это задано с рождения — наследственностью, территорией. Думаю, здесь есть выбор. Для меня это относится, прежде всего, к советскому периоду и всей его культуре — политической и художественной, государственной и подпольной. В идущей сейчас войне невозможно не видеть уродливое эхо советской истории, поэтому я воспринимаю ее и как свое дело, свое поражение.
*
Почти во всем, что я писал о литературе и о кинематографе, меня занимал один вопрос — вопрос о праве на высказывание. Здесь есть узел. Я не философ, и опишу его, может быть, немного топорно, но кажется, что это очевидные вещи. Право на высказывание (как и на поступок) прямо связано с властью, а власть связана с насилием (насилие — продолжение и отрицание власти, как война — продолжение и отрицание политики). Говорящий — художник или интеллектуал — говорит, зная о власти и так или иначе используя ее, черпая из самой субстанции власти свое право. Так он знает и о насилии. Речь и искусство связаны с насилием опосредованно — через рукопожатие власти, но связаны крепко.
Мне сложно судить про другие культуры, я знаю их слишком поверхностно. Но, кажется, неплохо знаю русскую и вижу, как это заложено в самом ее фундаменте. Никто не чувствовал эту тройную связку острее, чем Пушкин и не говорил о ней с такой откровенностью (поэтому риторические споры о нем сейчас не так пусты, как кажется). Ее знали и Платонов, и Мандельштам, и — хитрым образом — Хармс с Введенским, и все, кто были после них.
Моменты кризиса власти, а значит и кризиса права на высказывание меня всегда интересовали больше, чем моменты ее уверенной манифестации. Мне казалось, что в них можно найти особую свободу. Земную власть, оставаясь в сфере земных дел, среди которых — культура и политика, невозможно отрицать, но можно обнаружить зоны ее пробуксовки. С
*
Тем нем менее, оставляя за собой необходимость, желание высказывания культура и человек всегда остаются в пространстве власти. А значит — в потенции насилия. Культура — та, какой мы ее в основном любим — пытается перетянуть власть в противоположную сторону — в сторону высказывания, поступка. Но насилие всегда рядом.
Позднесоветская культура, с которой я связал свою жизнь, — это культура, возникшая как следствие грандиозного насилия (и одновременно как следствие огромного освободительного порыва), держащая полувытесненную память о нем в своем сердце, так или иначе выговаривающая ее, даже когда речь идет о совсем других вещах. Но насилие не только в прошлом, оно разворачивается все время: в государстве, в городе, в семье, в сообществе (последнее звучит как условность, но то литературное сообщество, к которому я числил себя принадлежащим в последние лет десять, испытало такое потрясение насилием совсем недавно, так что механику можно было увидеть на практике).
Во избежание катастрофы это насилие прикрывается сеткой различий и так встраивается в терпимую картину мира, постепенно удаляется в полутень. Мы — сколь угодно просвещенные — одновременно знаем о нем и не знаем (о чем много писал все тот же Жирар). Это лицемерное знание-незнание позволяет нам думать и говорить, на деле разделяя один большой мир власти со всеми, кто ее практикует, в том числе и с государством — как бы мы его ни ненавидели. Катастрофа — а Буча, и все что встает за этим именем, — именно такая катастрофа — разрушает эту хрупкую сетку, являя насилие, которое невозможно объяснить. Это явление чудовищным светом освещает всю систему культуры, заражает и преображает ее.
Катастрофа обнажает правду, незамечание которой только и делало речь, мысль и искусство возможными. Ставка хрупкого баланса, высказывания, знающего о своих опасностях, оборачивается лицемерным компромиссом. И здесь возникает вопрос вины — общества, культуры, Пушкина, Балабанова и каждого меня.
Этот вопрос — ловушка. Вина — еще один жалкий близнец власти. Она позволяет пережить потрясение и вновь занять ту же горделивую позицию, только в перевернутом варианте — ценой унижения, продолжать говорить в знакомой сетке координат, игнорируя тот факт, что сетка эта взорвана, и старая речь более невозможна.
Когда я опубликовал этот текст в фейсбуке, я получил много ценных полемических комментариев. Отвечая на них, я четче сформулировал свою позицию по ряду вопросов. Здесь я попробую коротко суммировать часть этих ответов. В основном они касаются канона и власти.
В посте, отвечающем на мой текст, Илья Кукулин говорит, что в моем описании отношения власти предстают как предельные — те, к которым так или иначе сводится все остальные. Это не так. Я действительно думаю, что власть пронизывает все сферы человеческого существования: политику, культуру, семью (в этом смысле я немного фукольдианец). Когда мы провозглашаем нечто зоной, свободной от власти, мы впадаем в опасную иллюзию, чреватую, скажем так, возвращением власти в крайне неприятных формах. Однако я вовсе не думаю, что человеческое существование сводится к отношениям власти. Есть множество других вещей: любовь, справедливость, искупление. Знание о них позволяет нам делать с властью нечто: искать ее слабые места, подлавливать, перехватывать, переводить в иное состояние — склонять власть в сторону не насилия и подавления, но действия и речи иного порядка.
Однако, когда мы говорим: “вот культура власти, а вот культура любви”, — это всегда соблазн. Подобным же образом, мы не можем сказать: вот насильственная культура угнетателей, а вот эмансипаторная культура угнетенных, давайте разделим их, проведем ревизию и создадим новый канон. Ревизия — это всегда радикальное упрощение и, что важнее, вытеснение, чреватое новым витком насилия и уж точно — новым торжеством власти. Опыт советской культурной ревизии нам это отлично показывает.
Что же в таком случае может значить беньяминовской завет “чесать историю против шерсти”? Мне кажется, он означает не необходимость искать в истории произведения и течения, представляющие позицию угнетенных и направленные против угнетателей. По крайней мере не только это. Я думаю, это значит: зная о власти и о ее связи с насилием, отдавая себе в ней отчет, искать зерна иного порядка — иную власть, а может быть даже иное насилие, насилие, вывернутое наизнанку (божественное, как писал тот же Беньямин).
Элла Россман заметила, что говоря об имперской культуре, я не выхожу в своем посте за ее пределы — перечисляю великих мужчин и не упоминаю ни одной женщины. Это действительно так, потому что я пишу о каноне, а именно эти мертвые мужчины представляют его столбовые фигуры. Тем не менее, я много думаю о том, как именно в культуру вписываются женщины. Когда мы смотрим на великих женщин русской и советской культуры — Ахматову и Цветаеву, Елену Шварц, уроженку Киргизии Динару Асанову, Ларису Шепитько (родившуюся в Донецкой области, выросшую во Львове и поставившую свой первый фильм также в Киргизии) — и конечно Киру Муратову — мы не можем увидеть в этой череде имен чаемый эмансипаторный канон, предлагающий стратегии избавления от власти. Наоборот, все они работают с материей власти, но работают очень особенным образом — образом, возможно недоступным для мужчин, потому особенность эта связана в том числе и с гендером, с положением женщины в культуре (но конечно, не только с ним).
Одесситка Муратова, которую тоже часто вспоминают в последние дни, здесь — хороший пример. Муратова — абсолютно авторитарный режиссер. Она делает актеров марионетками своей особой речи и пластики, не предлагает им пространства для сотворчества. В этом смысле она подобна другому авторитарному режиссеру — Тарковскому. Но Тарковский использует власть над другими, чтобы выстроить модель своего нарциссического внутреннего мира, а Муратова, чтобы создать образ абсолютно иного порядка сосуществования, подвешивающего привычный образ социума — того, что происходит между людьми буквально на телесном уровне — невиданной никем жестокости и невиданной любви. Именно в таких техниках иного заложен, как мне кажется, огромный потенциал обновления, а отчасти — спасения. О них можно бы говорить долго, но это был бы другой текст, и он не может быть написан изнутри катастрофы. Поэтому здесь я пока что остановлюсь.

