Мерцающая реальность «Автохтонов» (о романе Марии Галиной)
Читая роман Марии Галиной «Автохтоны»1, то и дело думаешь о том, в какую же парадигму тебе, как читателю, его поместить — реальную или ирреальную. И в ирреальную, игровую, понарошковую он почему-то никак не хочет помещаться. Так бывает, что когда читаешь чье-то произведение, то отчетливо видишь — вот ты, а вот реальность художественного мира. Читаемое может нравиться или не нравиться, но присутствие границы ощущается постоянно. С «Автохтонами» с самого начала все пошло не так.
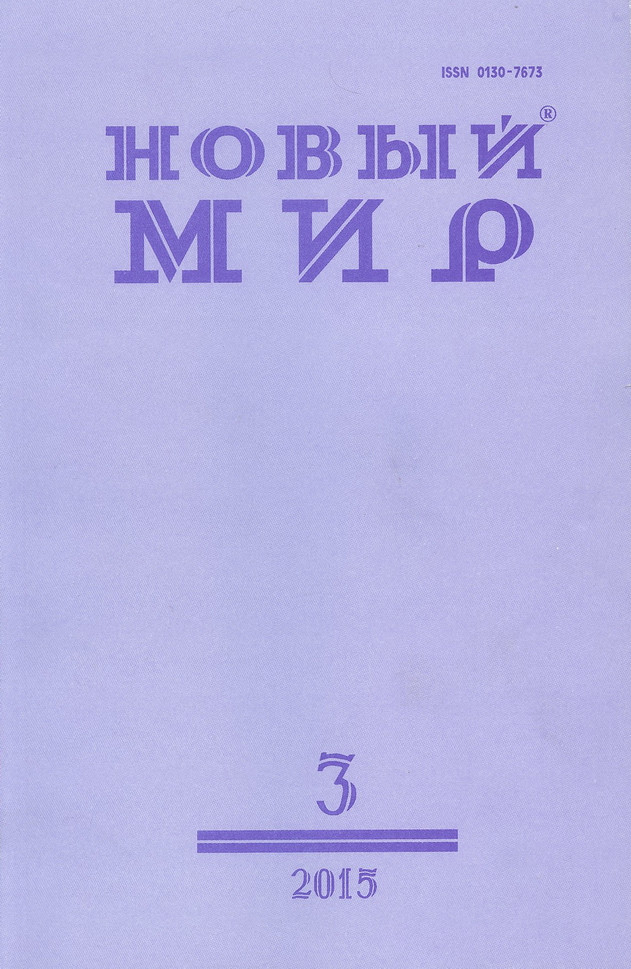
Безусловно, и призрачная фабульно-композиционная канва, и художественный вымысел — все это понятно. Но роман отчетливо предстает романом о «сейчас». Вот как раз о той самой действительности, которая оказывается перенаселенной химерами, порождаемыми пропагандой, борьбой политических интересов, дезинформацией, безрассудной готовностью людей слепо верить во что угодно, etc. «У нас такая старая канализация, вы понимаете, одна из самых старых в Европе, что в ней вывелась целая разумная раса тритонов». Чем собственно, все эти распятые мальчики Славянска и прочие порождения пропагандисткой машины ненависти так уж принципиально отличаются от разумных тритонов? Почему бы нам не поверить и в них?
И здесь ничего новее, чем идея стендалевского зеркала, лежащего у дороги, на ум не приходит. Только зеркало это разбито на множество мелких кусочков. И все эти кусочки, составляющие осколочную реальность, надо
Тут-то нам, вслед за героем «Автохтонов», предлагается увлекательный квест — разузнать о группе «Алмазный витязь» и всех участниках постановки оперы «Смерть Петрония». И здесь у героя появляются помощники и антагонисты (не зря в романе фигурирует фамилия Проппа), совсем как в волшебной сказке. Только в конце этой немного диковатой сказки happy end не наступает, герой не побеждает дракона, не женится на прекрасной принцессе, мед и пиво не пьются рассказчиком и по усам никуда не текут. Роман «Автохтоны» оказывается романом-матрешкой, романом — многослойным тортом, романом-лабиринтом2, всей своей архитектоникой предполагающим множественность точек зрения на него, множественность вариантов прочтения. Количество аллюзий и слоев в «Автохтонах» столь велико, что, практически как в «Хазарском словаре» Павича, можно сколько угодно долго ходить по ссылкам в саду расходящихся тропок референций. Занятие, кстати, весьма и весьма увлекательное. И это только один из возможных способов прочтения.
Но можно посмотреть на произведение и с другой стороны. Как уже было сказано, «Автохтоны» — роман про «сейчас», то самое «сейчас», в котором мифы, неомифы, пропаганда, реальность настолько переплелись между собой, что от жизни, происходящего вокруг создается ощущение неправдоподобности. И наоборот, вымысел воспринимается как правда (если не истина). И в этом смысле «Автохтоны» — это попытка выяснения системы координат, прояснения картины мира: кто мы? где мы? зачем мы? куда мы идем? Не случайно название романа то и дело рифмуется с вопросом «кто мы?» И ответы на эти вопросы при всей их, казалось бы, детской простоте, далеко не очевидны, поскольку в романе сомнению подвергается достоверность любого знания как такового, а заодно и достоверность памяти, в том числе и исторической.
Другими словами, перед нами встает практически кантовский вопрос: «что я могу знать?»
Возьмем, к примеру, героя. Достаточно скудные сведения о нем, как и его фамилию — Христофоров, мы узнаем практически в самом конце романа. «Какой там институт! Призвали. Дальше понятно. Домой не вернулся. Женился, развелся. Снимал какую-то хату. Купил тачку. Бомбил. Крышевал. Все как у людей». Местным жителям, быстро опознающим в нем чужака, он представляется то искусствоведом, то историком, хотя, как опять же выясняется к концу романа, не является ни первым, ни вторым.
Или, например, местность. Единственное, что можно сказать с твердой уверенностью, что местом действия романа «Автохтоны» является город, причем город украинский, где-то на Правобережье, с отчетливым противопоставлением исторического центра и всей остальной окраины. В нем есть что-то и от Львова, и от Одессы, и даже от Киева. Как сказано в романе, это «мягкое подбрюшье Европы». Эдакое пограничье. Если говорить о топонимике, то Рынок, Собор, Театр, Старый Рынок, монастырь Сакрекерок, улица Варшавская — это от Львова, а, например, улицы Пражская, Обсерваторная и Банковская3 — от Киева. Между тем ни с одним из перечисленных городов локацию «Автохтонов» идентифицировать нельзя, поскольку по существу мы имеем дело не собственно с городом, а неким историко-туристическим мифом о нем. С городом как прошлым. Впрочем, обычно так и бывает. Направляясь куда-то, мы едем смотреть на прошлое, памятники, музеи, древности, известные места, заранее игнорируя местность в ее настоящей ипостаси. Так и герой, интересуясь постановкой оперы 1920-х годов, смотрит на город только в этом диахроническом разрезе, как бы забывая о том, что любой объект нашего интереса и информация о нем, особенно если речь идет о легендах, — это не одно и то же. («Вы неверно оцениваете наш город, — сказал Урия, — вы рассматриваете его как некий, э, анклав. Заповедник добрых старых традиций. И оттого делаете ошибки»).
Здесь надо сказать, что для внимательного читателя указание на то, что мы имеем дело с противоречием между реальностью и нашими представлениями о ней, можно найти в самом начале романа во фразах «у нас, понимаете…немножко ремонт», меж тем как «на сайте ничего про ремонт не было», являющимися аллюзией на известное стихотворение Аркадия Штыпеля4 «Ремонт» («все думали ремонт, а это не ремонт»).
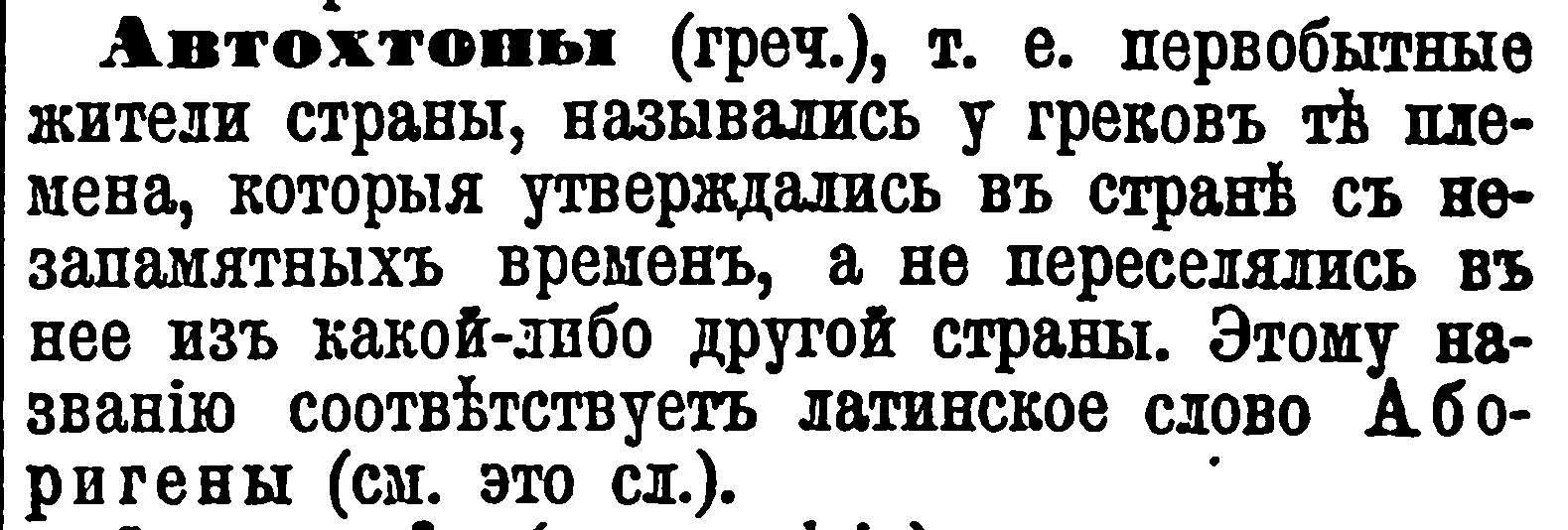
С другой стороны, сами местные жители усердно работают на поддержание и бесконечное воспроизведение представления о городе как о длящемся мифе, делая ставку на колорит и традиции. «Мы, понимаете, маленький город. Мы любим свое прошлое. Гордимся им. Прошлое, оно, знаете ли, легко делается настоящим. Из него можно сделать даже будущее». Кроме того, это удобно и «аполитично. Не надо с приходом каждой новой метлы переписывать путеводители». В итоге всякий приезжий получает реальность, ограниченную путеводителем и википедией, реальность, в которой нет и не может быть динамики, а есть пребывание и только. Не случайно все персонажи оказываются лишенными возраста, словно бы существовавшими всегда на данной территории, рассказывая обо всем так, будто являлись непосредственными участниками событий. («Сколько ему лет? Сколько им всем тут лет?»).
В итоге не только пространство, но и время в романе постоянно размывается. Как бы ускользает. Прошлое и настоящее то и дело перетекают друг в друга, становясь практически неотличимыми. Причем прошлое явно претендует на роль настоящего. «Прошлое, которое никак не становится прошлым, словно бы вспышка, уже погасшая, но оставившая на сетчатке долгий светящийся след». И это оказывается весьма уютным и комфортным способом существования. Не надо думать, беспокоиться, переживать. Можно годами ходить обедать в одно и то же время в одно и то же место, как бы совершая ритуал, ограниченный жесткой координатной сеткой, чтобы ничего не менялось и было, как всегда. Не случайно, что, в какую бы ресторацию ни пошел герой, ему непременно зададут вопрос «как всегда?» Хотя на самом деле никто ничего не знает об этом «как всегда». И как это — как всегда? Создается иллюзия прошлого как константы, как
Что дает такое восприятие прошлого? Пожалуй, чувство уверенности и знания правды. Роман опровергает и эту иллюзию. Так, например, хранитель истории оперного театра Шпет был уверен, что знает о театре все («Об этом театре я знаю все»), но вот приезжает какой-то человек, и выясняется, что Шпету ничего не известно о постановке Претором оперы «Смерть Петрония». С другой стороны, в таком восприятии прошлого как монолита есть ощущение надежности, устойчивости. «И в этом было наше спасение. В верности традиции». Но здесь, в свою очередь, возникает вопрос — в спасении от чего? Видимо, от будущего, неизвестного, непонятного, и оттого — пугающего. Прошлое же в романе становится надежным укрытием от жизни, воспринимается как понятное и свое, автохтонное, его можно освоить, в нем можно сориентироваться. «И пришли новые, чужие, страшные люди. И эти чужие люди разрушили и доломали то, что не успели разрушить и доломать предыдущие чужие люди. Если какая-то власть держится долго, можно найти какие-то щели, норы, где можно укрыться и даже попробовать быть счастливым».
Однако логика «Автохтонов» подсказывает, что любая уверенность в незыблемости прошлого, любое отсутствие сомнений и критического взгляда на происходящее оказываются профанацией. Раз за разом в романе возникает мысль о том, что граница между знанием и незнанием, истинностью и ложностью, памятью и тем, как было на самом деле, призрачна, тонка, едва уловима. Тогда как любая попытка прояснения — лишь вопрос интерпретации, интенциональности. Так, например, оказывается, что постановка «Иоланты» при одних и тех же исходных данных может быть интерпретирована абсолютно противоположным образом, достаточно лишь поменять маски. То же касается практически каждого персонажа, относительно личности и биографии которого в романе дается по две, а то и по три противоречивых версии. В итоге герой, приехавший в город, чтобы выяснить правду, оказывается заключенным в плотное кольцо версий и интерпретаций. И картина мира не только не склеивается в единое целое, а напротив, то и дело рассыпается и ускользает.
« — Вейнбаум, тут хоть кто-то говорит правду?
— Конечно, — обрадовался старик, — я, например. Какую вам правду надо? Я скажу!»
Наибольшую плотность реальность обретает в своей вещной ипостаси, в запахах, в еде и разговорах о ней: чечевичная похлебка, фаршированная шейка, ромовая баба… Еду можно потрогать, пощупать, попробовать на вкус, увидеть своими глазами. Память о съеденном оказывается наиболее достоверной, поскольку связана с личным опытом. Здесь, собственно, не в чем сомневаться — нужно есть. В то время как память историческая и прошлое в романе — это вечный поиск фактов и вечное сомнение.
« — Правда — это факты.
— Правда? В смысле — в самом деле? Факты — это то, что рассказывают о фактах люди, а люди, знаете ли…»
И в этом смысле поиск партитуры в «Автохтонах» становится вариантом моделирования картины миры. Партитура — это нечто вещное, конкретное, то, по чему можно играть, точно сверяясь. «Речь не отличает ложь от правды. Фальшивая нота фальшива всегда. Это просто». Во всяком случае в мире, который кажется уже не театром, в котором люди — актеры, а сумасшедшим домом, в котором все — психи, где становится невозможным отличить выдумку от правды, действительность — от декораций действительности, где реальность оказывается взбесившейся, а шум времени превратился в безумную какофонию, поиск партитуры выглядит обнадеживающим. Правда, оказывается, что партитуры никакой нет («Есть только шуты и психи. И никакой партитуры»), и то, как относиться к реальности, прошлому, настоящему, будущему — это вопрос выбора. Можно выстроить из прошлого целый город, поселиться в нем, лелеять свои детские обиды, а можно, сев в поезд, раз и навсегда оставить прошлое в прошлом, уехать в никуда, в котором «вам, как всегда?» никогда уже не будет.
Меж тем «точка сборки» реальности никак не находится. Вообще в романе реальность явно принадлежит к жидкому состоянию материи, причем горячему, переливается, как плавящаяся сталь или чечевичная похлебка, коснешься, чтобы поймать, — и обожжешься. Это как дотронуться до включенной лампочки.
И здесь очень важным является мотив освещения, то и дело возникающий в романе. Герой постоянно обращает внимание на лампочки, неприятно зудящие, мигающие, дающие неверный свет. Как говорит Шпет об одной из них, «она так мигает уже пятьдесят лет. А вы что, не знали? Они сразу после войны купили у американцев партию вечных лампочек». И здесь, если оглядеться по сторонам, включить новости или зайти в Интернет, можно с легкостью представить, что будет с обществом, если пятьдесят и более лет освещать реальность под одним и тем же углом, одной и той же лампочкой, в одном и том же свете. В такой реальности вечно живыми будут «хунта», «бандеровцы» и «загнивающий Запад», подобно тому как в романе рядом с вполне реальными людьми оказываются настоящими сильфы, двоедушники, прозрачники, волки-оборотни, каратели и т.д. Другими словами, прошлое все больше будет оплотняться и вытеснять настоящее. Реальность будет рассыпаться на то, что действительно происходит, и муляжи действительности. В этом смысле перед над нами встает вопрос о самой способности адекватного видения реальности в неясном, мигающем, мерцающем свете. «Он где-то читал, что если свет мигает с очень короткими интервалами, мозг просто игнорирует краткие периоды темноты, как бы достраивая реальность в момент ее исчезновения. Если окружающий мир нам регулярно отключают на долю секунды, а потом включают вновь, кто это заметит? Мы живем среди лакун и провалов…» И эту подмену в постоянно мерцающей реальности, где на головы людей 24 часа в сутки льются совершенно невозможные объемы дезинформации, а перед глазами мелькают фантомы пропаганды, все сложнее становится идентифицировать, поскольку миф, театрализация действительности, пусть даже речь идет об ужасе, оказывается более притягательной, нежели сама жизнь. Во всяком случае сейчас.
Можно ли из всего вышесказанного сделать вывод? Пожалуй, да, причем словами из эпиграфа: «…когда видны блуждающие огоньки, это означает неминуемый упадок страны».
1. Мария Галина. Автохтоны. «Новый мир», № 3.
Мария Галина. Автохтоны. «Новый мир», № 4.
2. См. Бонч-Осмоловская Татьяна. «Я покидаю город, как Тезей…»
3. В Киеве есть улица Банковая, однако это ближайшая ассоциация.
4. Аркадий Штыпель (род. в 1944 г.) — русский поэт, переводчик, критик.
