Марина Новикова-Грунд. Интуиция и ее экспликации
В 2019 году открывается новый образовательный проект — Институт свободных искусств и наук ММУ. Представляем расшифровку лекции ведущего преподавателя института Марины Новиковой-Грунд, посвященной тому, как мы сочиняем тексты и что сообщаем о себе с их помощью.
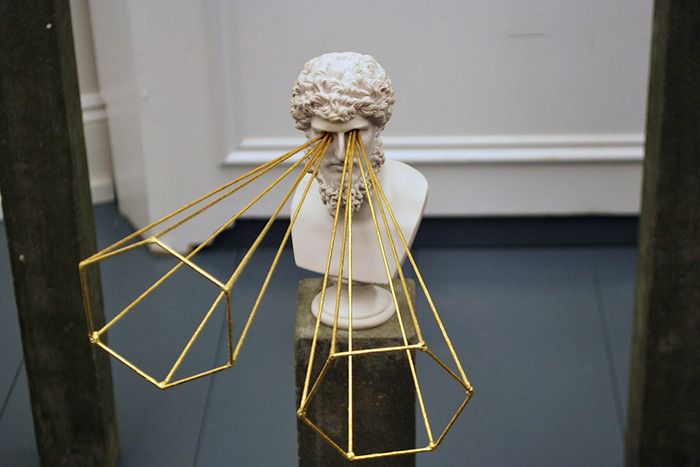
Марина Новикова-Грунд: Мы договорились сегодня поговорить об интуиции и ее экспликациях. Я не буду долго останавливаться на интуиции. Я хочу поговорить именно о ее экспликациях, тем более что это слово не очень очевидное. Мы можем воспринимать сигналы от реальности двумя способами. Первый мы изучаем еще в младенчестве: мы вдруг почему-то понимаем, что происходит. Как мы это делаем, мы не очень можем сказать. До сих пор меня изумляет эта фантастическая вещь, когда еще бессловесный ребенок вдруг понимает, что ты ему улыбаешься, и улыбается в ответ. Я понимаю, что существует множество нейрофизиологических объяснений, но я сейчас говорю о непосредственном чувстве, об эмоции. После выхода из раннего, позднего и
Но тем не менее, некоторые вещи перехода от интуитивного знания к эксплицитному, формальному нам доступны. Во-первых, те, кто имеет некоторый школьный опыт и еще его не забыл, наверняка помнят две в свое время удивившие нас вещи. Может быть, удивление не помнят, я сейчас напомню. Вот перед вами геометрическая задачка — доказать равенство треугольников. Ну чего доказывать? Ведь видно же, что они одинаковые. Вот это первое изумление: зачем это надо, ведь вот оно, прямо видно. Те, кто после стали заниматься математикой на чуть более серьезном уровне, видят, что это совершенно небесполезное доказательство. И вот второй вариант, тоже в мрачные школьные годы погрузимся: правила по русскому языку. Почему Машенька и Леночка — сидящие за одной партой, обе умеренно болтающие, обе умеренно хулиганящие — одна учит правила, подчеркивает зеленым карандашом, волнистой чертой и выделяет орфограммы, и при этом пишет с дикими ошибками, с кухарскими. А вторая, не уча правила, не умея подчеркнуть то что нужно, почему-то пишет грамотно. Как это происходит? Почему первая пишет неграмотно, я могу сказать очень просто: те правила, которые предлагаются в школе как правила, не работают. Это как минимум начало 19 века по уровню формализации, и каждый, кто пытался писать по правилам, знает, до какой степени это медленно, и до какой степени не очевидно, что ты преуспеешь, если огромное правило с кучей случаев, подслучаев и подподслучаев заканчивается списком исключений, где в конце написано “и пр.”. Понятно, что правила не работают, поэтому то, что не получается писать грамотно по правилам, — совершенно неудивительно. Но почему вторая девочка, никак себя не утруждая знанием орфограмм, почему-то пишет? Она каким-то образом полуосознанно обобщила свой опыт. При этом разговоры о том, что для этого нужно много читать — они экспериментально не подтверждаются, она другой опыт обобщает. Она что-то интонационное слышит, она как-то ушами различает звук “о” в слове “вода”, и звук “а” в слове “варенье”. Вот как она это различает? Она не умеет это эксплицировать, но очень хорошо это создала для себя. Мы перейдем сейчас к сложным вещам и попробуем сейчас эксплицировать краешек нашей интуиции.
Говорить мы будем о текстах, причем о текстах вербальных. Сразу оговоримся, что под текстом мы будем понимать, вообще говоря, любую последовательность знаков. Так что телефонный номер — это текст; и если сейчас кто-то войдет, постоит на пороге с непроницаемым лицом и уйдет отсюда — он тоже произнесет свой текст. Там будет ноль слов, но ноль — это тоже знак. И естественно, текст может быть письменный, устный, а
Из зала: То, что интересно.
М.Н-Г.: Но я подозреваю, что вам и мне будет интересно разное. В
Когда мы поднимаемся по лестнице, мы не смотрим на каждую ступеньку, и не рассчитываем свой шаг на каждой ступеньке. Мы рассчитываем один шаг, и исходим из вероятностного прогноза, что дальше тоже так
Вот у нас два безусловно скучных текста для любого, кто попробует это всерьез слушать. А вот третий вариант, уже не такой безусловный, уже промежуточный, но близкий к безусловному. В моем внутреннем языке этот текст называется “аспирантский доклад”, да простят меня сидящие здесь аспиранты. Вот представьте себе — конференция, выходит умный ученый мальчик, и, заглядывая в свои записи, начинает бесцветным голосом рассказывать: “был проведен эксперимент, в экспериментальных группах участвовали эти и эти, были получены такие и такие результаты; корреляции можно считать значимыми, потому что они располагаются в пределах от
Вот мы сейчас для экспликации этого маленького фрагмента интуиции остановимся и подумаем, как это работает. Пока что мы попробуем гипотетически, еще не проверив, сформулировать, что было в этих примерах скучного этих. Таблица умножения — это совершенно общеизвестно. Это легко добываемая, абсолютно всем известная и не прибавляющая ничего к нашему образу Я информация. Общеизвестное идет по разряду скучного. Текст на неизвестном языке — это непонятное. Если мы ничего не понимаем, это тоже идет по разряду скучного. Вот один слушает текст на непонятном языке, и ему интересно, как там устроены финальные рифмы. Другой думает о том, позвонить ли ему сегодня Маше, или пропустить звонок. На финали восточных языков ему абсолютно наплевать; ему будет очень скучно. Но в целом непонятное, оказывается, идет по разряду скучного, если оно непонятно совсем. И вот эту историю с интересом к тому, как устроены стихи на непонятном языке, можно выделить в отдельный кусок: если в непонятном мы находим повод для того, чтобы превратить это непонятное в понятное, выделить из этой непонятной мути что-то актуальное для себя — нам не скучно. Если нам вытаскивать оттуда нечего, нам снова скучно. Аспирантский доклад — это нечаянная манипуляция. Страшно — скучно. Дружелюбно и свободно — что угодно, но не скучно. Давайте теперь посмотрим, что заложено в тексте такого, что он скучный, и что в него надо заложить, чтобы он стал интересный.
Огромное количество текстов устроено таким образом: экспозиция, завязка, тело текста, развязка и иногда еще хвостик после развязки — какие-то переживания. Такая структура полностью накладывается на структуру совершенно другую. Она встречается в фольклоре
Пробуем работать с теми же текстами под рубриками “общеизвестное” или “не задевающее никаким образом”. Любой текст — осмысленный, бессмысленный, понятный, непонятный — может иметь массу всяких индивидуальных особенностей. Но у любого связного текста есть начало и конец. Между началом и концом кое-что располагается. Вот это начало, конец и
Мы разделили эту условную пачку текстов, на самом деле, это огромный ящик рукописных текстов, на следующие вещи. Экспозиция — сначала говорится, я отдыхал летом у бабушки, у нас во дворе мы гуляли с братом Васей. Потом появляется нечто, что создает драму: Вовка начал кидаться грязью, мы с мамой поссорились, соседка ко мне придиралась, собака была страшная. После этого каким-то образом мы разрешаем эту драму. Это называется, не будем пользоваться чисто литературоведческими вещами, давайте назовем это “телом текста”. Это не то, что пишут в учебниках по поводу кульминации. Что-то нужно сделать, чтобы это плохое прекратилось. И после этого мы празднуем победу, оплакиваем поражение, переживаем чувство после конца этой истории. Огромное количество текстов устроено таким образом. Можно это перечислить, как: экспозиция, завязка, тело текста, развязка и иногда еще хвостик после развязки — какие-то переживания “я там был, мед, пиво пил, по усам текло — в рот не попало”. Я совершенно не зря вытащила сказочную присказку. Оказалось, что такая структура полностью накладывается на структуру совершенно другую.
Она встречается в фольклоре. Революция, связанная не только с фольклором, но и со всеми гуманитарными науками, произошла достаточно давно. Я
Тут возникает удивительный вопрос. Волшебная сказка — это рефлекс древнего мифа, рассказывается бабушками, которые не считают себя авторами сказок. Они их рассказывают, развлекая внуков, или удовлетворяя любопытство фольклорной экспедиции, или для поучения, или для привлечения внимания, или попросили, “а
Спокойный счастливый ребенок совсем не так нуждается вхэппи-энде , как ребенок, да и не ребенок, замученный, задерганный и боящийся
Чтобы проверить, что творится со спонтанным сюжетом, который люди выбирают просто так, не думая: сейчас я сочиню нечто. А просто, что бы они ни ни говорили, у них получается сюжет. Во-первых, для эксперимента мы выбрали не взрослых, а маленьких деток. Пятилетние дети еще не являются носителями культуры, мало кто из них смотрит Тарковского, мало кто из них цитирует наизусть “Преступление и наказание”. То есть мы могли не ожидать сильного вмешательства культуры в то, что они будут делать. Каждому ребеночку мы давали горсть пуговиц — семь плюс-минус два, — девять пуговиц. Пуговицы были все совершенно разные по текстуре, цвету, форме и так далее. Каждому давали инструкцию: “Детка, — говорили мы ему, — вот у тебя горсточка пуговиц, представь себе, что тебе очень долго, целые полчаса, надо сидеть одному в комнате, и у тебя никаких игрушек, кроме этих пуговок, нету. Покажи, как ты будешь играть?” Мы даже не мучали их, действительно оставив в комнате с этими пуговицами, а просто просили показать. И ребеночек, разглядев эти пуговки, чуть-чуть повозюкав их, выбирал самую, с точки зрения его, красивую и говорил: “Это я”. Или это мальчик, это зайчик. Он выбирал протагониста, главного героя. Дальше этот мальчик-зайчик жил в своем пуговичном мире, одни пуговицы были его друзьями, другие — его собачкой, третьи — мамой. Он выстраивал свой пуговичный мир. И когда обустройство пуговичного мира ребенку надоедало (а надоедало очень быстро), из отброшенных пуговиц, которые его раньше не заинтересовали, появлялась черная пуговица. Появлялось зло. Это зло носило разные наименования: медведь, страшный дядька, большие мальчишки, которые будут надо мной смеяться и так далее. Но появлялось зло, пропповская “беда, горе, недостача”. Дальше происходили всякие коллизии с этой дурной, нехорошей пуговицей. Догонялки, прятки, победы, поражения. У многих детей приходил медведь: “Вот это вот мальчик, он здесь играет, а вот “тюк-тюк-тюк!” пришла большая темная пуговица.” Это кто, детка? “Это медведь”. И дальше что? “Он ‘ам!” мальчика — и съел’. И что дальше? “Все! Тетя, можно я пойду?” Потому что спокойный счастливый ребенок совсем не так нуждается в
Это эксперимент был проведен в огромном количестве серий, в разных вариантах. И этот сюжет с появлением черной пуговицы, победой или поражением протагониста разворачивался абсолютно всегда. Мы не можем сказать, что нашли архисюжет. Тут есть методологические соображения, которые не позволяют делать такие легкие заключения. Но мы нашли способ описания. Любой сюжет любого текста мы можем описать с помощью этой истории, хоть с черной пуговицей, хоть с тем, что я более дистиллированно рассказала раньше: “завязка, развязка”. Кстати, обратите внимание, когда я рассказывала про завязку, тело текста и развязку, меня слушали вежливо. Когда я рассказывала про ребеночка, который злорадно устроил совершенно антихэппи-энд и стал сползать со стула, меня слушали без напряжения. Я рассказывала двумя способами одно и то же. Когда были абстрактные построения, непосредственного внимания у людей не возникает. Может быть интерес, чем все это кончится. Но, в общем, идет скорее по разряду скучного. Когда появляются персонажи — черная пуговица, медведь, нахальный крошка, который норовит закончить мероприятие и получить свою конфету, слушать гораздо проще. Мы очень конкретно устроены.
Так вот, после того, как удалось выделить эти элементы сюжета, у нас остались вопросы: каким образом так хорошо совпали истории волшебных сказок и то, что человек совершенно случайно порождает просто так. Почему ребенок, который даже не пользуется особенно словами, говорит: “Вот это пошел топ-топ-топ! Ам! В потом он сюда — аааа!” Он даже не особенно словами рассказывает, как он выстраивает этот сюжет. И Ф.М. Достоевский в “Преступлении и наказании”, и история… Оторвемся от европейских сказок, оказалось, что это распространяется вообще на все сказки и так далее. Какой-нибудь человек из племени маринд-аним отправился искать свою маринд-анимскую Эвридику в кустах страшной тропической крапивы. Вариант Орфея, но трансновогвинейский. Как это все может строиться по одной схеме? Почему? На этот вопрос есть единственная разумная интерпретация. Если кто-то предложит другую разумную интерпретацию, я буду благодарна. Но покамест никто не предолжил, разумная интерпретация выглядит так: целая серия разных психолингвистических экспериментов показала, что когда мы говорим, что бы ни говорили, как бы ни говорили, мы все равно говорим о себе. Даже скучный мальчик-аспирант, который делал скучный доклад с гениальными выводами. Он же тихим голосом, никому не удивляясь, не выстраивая никаких — и тут вдруг оп! Он рассказывал: “Вот, я вот это сделал. Ну что?” И никто не откликался. А прохиндей, у которого особенно нового ничего не было, говорил: “Вы представляете, вот посмотрите, какие у меня игрушки. Вот и этим играл, и этим играл. И потом — оп! у меня вот это получилось. И не важно, что оно не очень значимо, зато посмотрите, как весело получалось!”
То, что я сейчас рассказываю, я вынуждена признать, что несмотря на то, что я говорю про обожаемого мною Проппа, про психолингвистику и про сюжеты, я все равно говорю о себе примерно следующее: “Хотите, я вам тоже покажу — вы будете уметь такое делать, это очень интересно. Поиграйте в мои игрушки, помотрите, какие они классные!”. И пытаюсь сделать мои игрушки интересными. Так вот каждый человек, что бы он ни затевал говорить, всегда на некотором уровне непременно говорит о себе. Не зря адвокаты учат своих нашкодивших подзащитных: “Откажитесь от дачи показаний”. Стоит открыть рот — и ты что-нибудь про себя скажешь. Когда мы о себе говорим, когда адвокат не подсказывает нам о себе: “Молчи, молчи”. Хотя я точно скажу, что иногда ноль высказывания — это очень красноречивое высказывание. Когда мы что-то говорим, мы обязательно проговариваем следующие вещи: мы говорим о том, что мы любим, мы показываем свои, вот то, что я сейчас назвала игрушками, мы говорим о себе: “Я вот такой и вот такой”. Мы говорим о своих страхах и пристрастиях. Мы это скроем довольно глубоко в тексте, но, приостановив этот ритм, мы сможем довольно легко это вытащить. Как мы это делаем?
Разница между психиатрами и психологами иногда не так велика, но методологическое различие вот в чем: психиатр очень хорошо знает про болезни и почти не контактирует с нормой
Я приведу примитивный пример: в любых учебниках психиатрии, описывающих такую тяжелую болезнь, как алкоголизм, очень четко описывается специфика человека, больного алкоголизмом: он будет оживляться при разговоре об алкоголе, будет вспоминать марки вин, формы бутылок, история про то, как Билл сидел в баре с Бобом, и Билл смешное сказал. Он будет так или иначе при любой возможности прихватывать тему, где алкоголь, рюмки, бутылки, ситуация выпивки и прочее, хоть краешком будет звучать. На самом деле, я рискну противоречить почтенным учебникам психиатрии, это будет происходить не только у человека, больного алкоголизмом. Разница между психиатрами и психологами иногда не так велика, но методологическое различие вот в чем: психиатр очень хорошо знает про болезни и почти не контактирует с нормой. Поэтому то, что я описала как признак человека, больного алкоголизмом, верно лишь до некоторой степени. Масса не-алкоголиков тоже будут это делать, но по другой причине. Для них, хоть они и не алкоголики, проблема алкоголя является нерешенной. Кто-то в семье пьет. Или пил прадедушка, а человек боится, что это передается по наследству, что он выпьет сейчас 20 капель валерьянки и сопьется. Или он занимается проблемами алкоголизма, он изучает это — у него тоже будет тот же алкогольный контекст, алкогольный юмор, что и у его пациентов. Как только у нас есть нерешенная проблема, она будет мозаично, фрагментами, кусочками вылетать в каждом нашем спонтанном тексте, в каждом нашем разговоре. После того, как эта проблема будет решена, она отойдет на второй план и не будет в нашем тексте появляться. Например, человек, который готовится к поступлению в вуз, будет сыпать анекдотами про экзаменаторов, рассказывать про экзаменационные ситуации, ужасы или что-нибудь смешное. Будет говорить про то, каково это отвечать, если не знаешь билет. Или вот к молодой девушке лучше не садиться отвечать, потому что она точно завалит, лучше старушечку. Когда у него закончится проблема экзаменов, он перестанет в толпе замечать лица страшных и нестрашных экзаменаторов и не будет рассказывать анекдоты про шпаргалки и счастливо вытянутый билет.
Но есть проблемы, которые никогда не решены. Не имеют решения постольку, поскольку мы все являемся человеческими существами. Это так называемые экзистенциальные проблемы, или экзистенциальные страхи. К ним относится следующих набор ужасов: во-первых, идентичность. Кто такой я и какой во мне смысл? Я кто и я зачем? В разные периоды жизни мы отвечаем на это по-разному. Если очень страшно, мы отвлекаемся суетой, про которую прекрасно писали немецкие философы. Мы можем убегать от этого страха, мы можем встречаться с ним и
Страх свободы. Каждый, кто сидел перед чистым листом бумаги, на котором нужно что-то написать, знает, что такое страх свободы. Когда можно… Что, правда можно? И это можно? Чувство свободы обескураживает. Иногда нам удается загнать его куда-то вглубь, и если нам удается чувствовать себя несвободными — это очень комфортная ситуация. Ну что поделаешь, так сложились обстоятельства, я здесь ни при чем. А если нам не удается скрыться за обстоятельства и за грамматику, которая поддерживает нашу картину бессилия в мире случайности, то нам становится страшно. Грамматика очень хорошо поддерживает: «случилось так, что мне пришло в голову». Сказать так гораздо легче, чем сказать: «я сам собой взял и подумал. А потом еще сам взял и на свой страх и риск сделал». Гораздо проще говорить: “Ну, в общем, обычно получается таким образом, что это происходит вот так”. Не: “Я сейчас сяду и напишу текст”, а: “Текст как-то долго не складывался, а потом почему-то вот, ну я не знаю, вот такой он получился, что ж теперь сделать. Вот как вышло, так и вышло. А я здесь мимо пробегал — свободы никакой”.
Страх одиночества, страх любви и, конечно, совершенно очевидный страх смерти, от которого нет ни таблетки, ни пилюли. И если у человека есть страх смерти, ему нельзя сказать: “Ты давай сходи к психологу или психиатру, и он тебе скажет, страх смерти — это ничего”. Ни психолог, ни психиатр этого не скажет, потому что он тоже боится смерти. Он тоже человек. Это проблема, которую нам приходится решать всю жизнь, перехватывать решения из предыдущих поколений. И все равно, кроме нашего собственного решения в данный момент, нас ничего не удовлетворяет. А когда кончится данный момент, нам придется перерешивать все заново. И вот эти экзистенциальные проблемы сохраняются в любом тексте ровно потому, что это набор нерешенных и никогда не решаемых проблем. Я возвращаюсь от волшебных сказок к нашей истории с пуговичками. Сначала ребенок выбирает самую красивую пуговицу и говорит: “Это я”. Он нашел вариант описывать свою идентичность. “Почему, детка, ты выбрал эту пуговицу?” “Она самая розовенькая”. Или она самая маленькая, или есть большая пуговица, которая похожа на нее, и у нее есть мама, как у меня. Они будут проводить какие-то параллели, и они будут вытаскивать некоторую самую-самую иксовую пуговицу. Под иксом может быть что угодно. После того, как ребенок выбирает своего пуговичного заместителя, он делит свой пуговичный мир на живое и неживое, на свое, чужое и так далее. До Хайдеггера ему еще лет тридцать в лучшем случае жить. А потом появляется зло, страх. До последнего времени мы считали, что эта пуговица — это страх смерти. Сейчас, кажется, появились более сложные описания. Там могут быть разные варианты страха. Ну, чаще всего, страх смерти. И потом победа над смертью или прекращение всего этого.
Вы еще помните, что эти байки последовали после того, как я обещала говорить про скучное. Я просто напоминаю: как только мы начинаем говорить теоретические вещи, нам становится немножко скучно. Как только появляются живые картинки, да еще дети, да еще животные, да еще личные проблемы. Я еле удержалась от того, чтобы рассказать, как описывают тортик девушки, которые борются с тремя килограммами лишнего веса. Алкоголические тексты меркнут перед текстами худеющих девушек. Я просто не хотела превращать свой доклад в прохиндейский, я хочу доехать до конца и до вывода.
Так вот, после того, как мы получили приблизительный интерпретационный ответ, что в каждом тексте присутствуют так или иначе скрытые (в грамматике, в сюжете, еще как-то) проблемы из тех, которые мы не решили, не решим, и наши потомки не решат, проблемы экзистенциального плана, — вот теперь мы можем спокойно перебираться к истинно скучным текстам. Возвращаемся к таблице умножения. В этой таблице умножения кое-чего нет. Там нет никакой черной пуговицы. Там нет идентичности, там просто перебор слов, который не связан ни с какой моей актуальной жизнью. И он проскальзывает мимо. Я могу легко сказать, как превратить таблицу умножения во вполне затейливое чтение. Выберите какое-то число (двузначное) которое вы назовете мальчик, зайчик и сделаете его протагонистом. А потом, когда идут первые колонки, где еще двузначных чисел нет, вы будете ждать, когда на сцену выйдет главный герой. А потом найдите какое-нибудь плохое число, которое главного героя пугает и губит. Таблица умножения превращается в детектив. Испробовано на толпе детей, которые запоминают таблицу умножения прекрасно. Да что на толпе обычных детей, опыт моей давней диссертантки: она на практике в коррекционной школе для деток с самыми разнообразными диагнозами, которым поставили задержку развития (на самом деле понятно, что это все что угодно) пыталась провести урок русского языка. Она хотела десятилетних деток с отставанием развития научить тому, чему их учили два месяца, и учили безуспешно: великому правилу “жи, ши — пиши с “и””. До этого у них был очередной урок, очередной диктант, они снова все написали “жи” и “ши” как ни попадя. Там действительно были серьезные интеллектуальные проблемы. После этого пришла моя аспирантка и сказала: “Дети! Жили-были два хороших мальчика, Жи и Ши. И была злобная девочка Ы, с которой никто не хотел играть, и хорошая девочка И, с которой все играли. Как вы напишете слово “жить”?”. И дети ответили хором — “с ‘и’!”, потому что девочка Ы противная. Стоило внести, говоря ученым языком, экзистенциальные проблему, а неученым — одушевить персонажей, внести туда жизнь, как сразу текст воспринимается иначе. Таблицу умножения переделываем — можно сделать историю. Иноязычный текст переделывать гораздо труднее, потому что трудно вытащить что-то, с чем ты идентифицируешься. Если удастся поймать какое-то слово, дальше его отслеживать и
Не все сказки, в которых есть три брата, и третий — дурак, обязательно кончаются свадьбой. Она может быть умолчена
Возьмем текст, который вызывает ощущение отчаянной скуки. Я позволю себе процитировать текст, который я много раз повторяла в лекциях по очень простой причине: я помню его наизусть, а скучный и пустой текст наизусть выучить очень сложно. А этот я помню. Вот, про одно из ярких детских воспоминаний женщина пишет: “Одно из моих самых ярких детских воспоминаний. Когда мне было 12 лет, меня отправили отдыхать в лагерь для детей работников академии наук. Там было очень весело, вожатые придумывали разные игры. Больше всего я любила сидеть возле клумбы. На клумбе росли розы, их поливал садовник”. Вроде бы никакой у нас черной пуговицы нету, никто не заметил никакой драмы, правда? Ничего не происходит, и кажется, наша пуговичная история с
Давайте попробуем вытащить эти умолчания. Вы мне поверите, что каждое из таких умолчаний системно можно описать и можно вытаскивать откуда угодно. А сейчас я покажу на примере. Это не ad hoc, не такой единичный случай, а это настолько внятный алгоритм, что вот бета-версия уже сейчас почти закончена, чтобы это делать компьютерным образом. Первая фраза: “Когда мне было 12 лет, меня отправили отдыхать в лагерь для детей работников академии наук”. Отправили. И мы тут же можем задать вопрос: кто «отправили»? Ну мама с папой, мы не ошиблись. Если человек пишет: “меня отправили”, значит, наверное, она этого не хотела. А наша экспериментальная практика показывает что если она не называет, кто отправил, и не говорит, что она при этом делала, то эта ситуация для нее до сих пор остается тяжелой. И мы уверенно можем задать вопрос: “А ты хотела туда ехать”? И тут 43-летняя женщина начинает выхватывать салфетки из коробки, сморкаться, и говорит: “Я так просила их, чтобы они меня не отправляли…” — “А они что?” — “А они сказали, что им нужно от меня отдохнуть, хотя бы два месяца побыть вдвоем”. Черная пуговица есть? Ее просто не было видно невооруженным глазом. Вот у нас конфликт-1. Конфликт — нехорошее, неаккуратное очень слово. Аккуратно можно сказать: “Я”, субститут “Я” в тексте, обижена на родителей. “Родители меня обижают”. Дальше начинается следующий печальный сюжет. “Там было очень весело”. Что умолчено? Кому было интересно? И ваша интуиция снова срабатывает: если бы там было действительно интересно, то пошла бы конкретика, она стала бы рассказывать какие-то детали, она в конце концов бы перечислила какие-то пустяки. Она не сказала “Я” и не сказала, кому было это интересно. Значит, неприятно. И следующая точно такая же фраза: Вожатые придумывали разные игры”. Сколько их было? Какого пола они были? Какие отношения у тебя были с этими вожатыми? Если все замолчено, значит это еще один конфликт. И мы спрашиваем: “А ты играла в эти игры?”. И уже знаем ответ: “Я что, ненормальная, в этот ручеек играть?”. И следует ещё одного, большое-пребольшое умолчание: нет перехода: “Больше всего я любила сидеть возле клумбы”. Только что они играли в игры, и следующая история — “Я любила сидеть возле клумбы”. Как она туда попала? Что произошло в промежутке между вожатыми, играми и клумбами? Я подробно не буду рассказывать, хотя те, кто включил интуицию, и так это знают. Что она сбегала, плакала и сидела возле клумбы. “Что ты там делала?” — “Плакала”. — “А почему плакала?” — И тут распаковываются все развязки этого многосерийного сюжета. — “Я мечтала, что я здесь умру, и тогда родители приедут и увидят, что я умерла, и тогда они поймут, как они были не правы и как нельзя меня было отправлять в этот лагерь”. Плачет она до сих пор, эта тема для нее не закончилась. Она продолжилась, на нее нанизываются новые и новые истории такого же плана. Как можно, анализируя текст, вытаскивать умолчания? Вытаскивать то, чего там нет, но по схеме сюжета должно быть. Как только встречается сладостный сюжет о том, как все было прекрасно, птички чирикали, облака плыли, и вообще все было чудесно, мы можем точно знать, что нам этот текст скучно и неприятно читать, потому что мы боимся; мы не знаем, кто прячется в кустах, над которыми чирикают птички.
Те, кто помнят свои школьные впечатления, или имеют детей, братьев, сестер соответствующего возраста, которых в школе мучают “Записки охотника” — послушайте, что несчастные дети говорят о “Записках охотника”. “Где чирикают птицы, где кони, звеня поводьями, уходят в кусты, горит костер и пахнет влагой”. У Тургенева там была черная пуговица, и читатель, знающий про шеллингианство Тургенева, тоже хорошо ее видел. Страшная женственная природа, которая наводила свой страшный порядок среди этих коней, костров и так далее. А дети, которым не нужно рассказывать про Шеллинга, они понимают, что этот текст с умолчаниями, там есть что-то очень страшное и неприятное, а агрессия направлена против них так, что лучше убежать с урока, или забыть тетрадку, или выучить и забыть навсегда. Страшное очень способствует забыванию.
В принципе, умолчание можно искать на всех уровнях, а не только сюжетном. Можно искать на синтаксическом уровне — то, что мы с вами сейчас благополучно нашли. “Когда меня отправили отдыхать в лагерь” — это синтаксический уровень умолчания. Можно искать умолчание на более низких уровнях вплоть до фонетики. Если бы все то же самое я рассказывала бы достаточно громко, чтобы меня было слышно, но на одной ноте, я предполагаю, что ушедших из этой аудитории было бы больше.
Заканчивая эту историю про интуицию и экспликацию, то есть превращение в

