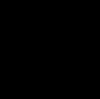Пасторальность как встреча с Реальным: против эскапизма созерцания

По ходу того, как набрало обороты движение по пути самопротезирования и самовиртуализации, на который встало говорящее животное в своей эволюции, травматичность и непредсказуемость реального столкновения с материальностью, матереальностью мира были принесены в жертву эскапизму и безопасности созерцания. Радикальное самоотчуждение от тела и телесности в форме двухмерного образа, самореорганизация субъективности с оглядкой на двухмерность, которые имеют место со второй половины девятнадцатого века, явились логичной кульминацией долгого процесса отслоения образа от тотальности бытия. Образ, в той форме, в которой он функционирует, а значит и самоопределяется в симптоматическом, самопроецирующемся мире современной субъективности, дихотомичен корпореальности, матереальности мира, а все более навязчивое вытеснение матереального в виртуальное, текстуальное, двухмерное означает лишь то, что сам факт эскалации данного конфликта уже подразумевает одно единственное возможное его разрешение — в пользу образа.
Само понятие образа в качестве того, что выделяется, выявляется на фоне чего-то, превращает все то, что им не является, в фон, кадрируется, обрамляет себя прикованным к себе вниманием, — все это подразумевает то, что Жан-Люк Нанси артикулирует в качестве обособленного (distinct). Будучи неотделимым от чувственного опыта, то есть несводимым к
В условиях, в которых субъективность-как-невротическое оказывается втянутой в вышеописанный конфликт на данном уровне, отношения с природой неизбежным образом сводятся к
Таким образом, будучи просеянной через сито образа, пасторальность заканчивается там, где она может вступить с субъективностью в отношения того, что мы называем глубокой тактильностью. Последняя относится к парадигме интерсубъектно-объектного сопротивления материалов, в рамках которой центр тяжести кожного покрова смещается от перцептивного среза невротического вытеснения в сторону становления местом корпореально-травматической садо-мазохистской встречи с миром. На онтологическом, а значит всегда-уже-неантропоцентрическом уровне речь идет о дебанализации и демифологизации эволюционной реорганизации отношений между первичностью и вторичностью, нашедшей свое максимальное выражение в капиталистическо-урбанистической субъективности, безапелляционным образом произрастающей из скопической и вербальной форм наслаждения. Виртуальная, декорпореализованная субъективность. Реквием по животному.
Переосмысление пасторальности в качестве травматической, садо-мазохистской встречи с миром матереального, а значит и с Реальным в психоаналитическом смысле этого слова, то есть в качестве встречи с вытесненной, темной стороной пасторальности-как-эскапизма-созерцания означает перевертывание причинно-следственной связи между символизацией и корпореальным травматическим опытом. Речь идет о движении против течения того, что Лакан артикулирует в качестве несуществующего. Травма, являющаяся мерилом данного движения, ее термодинамическим эквивалентом, оказывается единственным ключом, позволяющим приоткрыть ящик Пандоры под названием «женщины не существует», «сексуальных отношений не существует» или «космоса не существует», ведь под несуществованием Лакан подразумевает отнюдь не онтологическое отсутствие, но утрату, которая, в свою очередь, не просто отражает процесс субъективизации как таковой, но на более глобальном уровне выявляет структурную и структурирующую разницу между онтологическим и метафизическим, то есть между бесконечно-открытым-в-себе и его всегда-уже-антропоморфной концепцией. Под метафизикой в данном случае мы подразумеваем тот логоцентрический итог человеческой эволюции, который деконструирует Деррида в «О Грамматологии». Речь идет, таким образом, о метафизике, «определя[ющ]ей смысл бытия как наличия», о метафизике «как ограничени[и] смысла бытия полем наличности[,] предполага[ющей] господство определенной языковой формы».
Однако же, переосмысление пасторальности в представленном выше ключе подразумевает переосмысление осмысления посредством отказа от оного, что делает это самое переосмысление невозможным. Травматическое пренебрегает смыслом, оно не ведает, что творит. В начале были Слово и Образ. Все чрез Них начало быть, и без Них ничто не начало быть, что начало быть. В Них была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. В начале, а значит и в итоге, воплощенном в Антропоцене, было существование-как-картография-видимого, бытие-как-видимость, как то, по ту сторону чего нет ничего, что претендовало бы на то, чтобы быть, не будучи ни видимым, ни осязаемым, или же не будучи видимым, но будучи осязаемым, или же будучи видимым, но тем, чья осязаемость безапелляционна и неотделима от видимости, тем, что наделяет пространство текстурой и событийностью гомогенного, протяженного на том уровне, на котором центральной осью происходящего является событие, разница интенсивностей, а не их осмысление, которое в лучшем случае является следом события. В худшем же, то бишь нормативном, всегда-уже-антропоцентрическом случае осмысление является следом себя самого, симулякром события, что отсылает нас к природе языка, к самореференциальности означающих. Становление животным, то есть становление умерщвленным означает восстановление функции смысла по ту сторону образа — его обретение в поле термодинамики, травмы, движения и глубокой тактильности, обретение пасторальности заново в качестве гомогенного, протяженного.
Такого рода процесс подразумевает радикальную самопервертизацию относительно фаллогоцентризма культуры, а значит и ту самую неудовлетворенность ею, симптомом которой является психоанализ. Под самопервертизацией же следует понимать по сути де-первертизацию субъективности, если рассматривать субъективность, следуя за Фрейдом, в качестве первертного продукта самопротезирования человека. Ключевыми фазами данного процесса, добавим мы, явились переход к оседлому образу жизни, возникновение языка и, наконец, трансплантация матереального в двухмерный образ, в инфляцию образности, в убийство пасторальности, в ее изобретение заново в качестве продукта купли-продажи, на что сетует Юлиус Эвола еще в 30-х, то есть задолго до глубинной экологии Арне Нейса и «Трех экологий» Феликса Гваттари, предтеч того, что выкристаллизовалось в экософию как дискурс.
Пасторальность как встреча с Реальным, таким образом, идет вразрез с