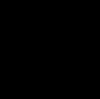Тактильность как субъективизация / сопротивление материалов как событие

В определенном смысле субъективизация обратно пропорциональна становлению животным. Становление субъектом — это убийство животного, того самого животного, чье мясо мы любим well-done. Однако все, с чем мы в итоге остались, — это конец нити, вкус мяса и подливы в себе, симулякр аналогичного опыта, переживаемого животным. Поэтому, когда Делез говорит о мясе по ту сторону образа, он подразумевает не икебану на блюде, потребляемую не в последнюю очередь на уровне семблантного, потустороннего музейного экспоната, но плоть, в которой бурлит эволюция, перемоловшая немало костей. Мясо по Делезу — это «зон[а] неразличения, неразрешимости между человеком и животным. […] [Э]то такое состояние тела, когда плоть и кости не структурно сочетаются, а локально соседствуют. [Однако, р]ечь идет не о перекличках человека и животного, не об их сходстве, а о глубинном тождестве; их зона неразличения глубже всякой чувственной идентификации: страдающий человек есть зверь, страдающий зверь есть человек».
В свете вышесказанного, если животное является, как формулирует это Деррида, «существо[м], отказывающ[им]ся от того, чтобы быть концептуализированным», то становление животным, материей, мясом, подразумевает переоценку своих отношений с языком, а значит и переоценку отношений субъективности с самой собой, переоценку, являющуюся по своей сути категорически травматичной. Если быть более точным, однако, переоценка эта является, скорее, посттравматической, ибо она не возникает ex nihilo. Трансформация — результат тяжелого потрясения, травмы, но было бы ошибкой ее трансцендентализировать и возводить в фантазматическую степень «в себе». За каждым событием трансформации тянется шлейф довлеющей мертвой материи, вымираний, выживаний и локальной цепочки поправок, вносимых в субъективность со стороны матереального. Бурление эволюции.
В этом бурлении эволюции любовь к мертвой плоти и любовь к плоти живой переплетены до полной размытости границ. В экзистенциальном трансе, в событии ужаса, в эротическом кочевничестве Я, этом преходящем смятении самоидентификации, субъективность выбрасывается в потерю ориентиров из невротической центрифуги, симулирующей движение, скрывающей за головокружением онтологический застой прикованности к антропоморфной оси или то, что Бодрийяр артикулирует в качестве апотропии: субъективность продуцирует симулякры, циркуляция которых приводит к загустению человеческого бытия. Когда имеет место интерсубъектно-объектное сопротивление материалов, встреча срезов материи различной концентрации и формы взаимодействия с остальным бытием порождает смысл иного порядка, чьей точкой схода предстает сиюминутность опыта. Под опытом мы подразумеваем то, что Батай и Бланшо ищут в метафоре ночи, никак не фактическое нахождение в некоем месте в некое время, отнюдь не отстраненность от тотальности бытия, измеряемую хотя бы банальным, обманчивым, как и любое осмысленное ощущение, чувством безопасности, не говоря уже о чувстве предсказуемости происходящего, которое всегда граничит с бредом величия. Это самое чувство, в свою очередь, символизирует само-де-онтологизацию субъективности, которую мы наблюдаем во всей красе в эпоху Антропоцена. Сиюминутность опыта, являющая себя в качестве события, сопротивляется памяти, которая заслоняет собою данность и то, что, собственно, Батай вкладывает в само понятие ‘опыта’, а именно «путешествие на край возможности человека. […] Забвение всего. Бесконечный спуск в ночь существования».
Де-онтологизация субъективности разыгрывалась на многих уровнях, одним из которых явилась театрализация, гетеротопизация, и, как результат, вытеснение садо-мазохизма как части естественной сути вещей и субъективности. Под гетеротопизацией мы подразумеваем прямую отсылку к Фуко, то есть выкристаллизовывание в
В противовес данной самовиртуализации, само-де-корпореализации субъективности становление животным, становление материей возвращают нас к травме, к глубокой тактильности, к тактильности, помеченной контингентностью и отсутствием причинно-следственного пакта между нею и безопасностью. Интерсубъектно-объектное сопротивление материалов, проявляющееся в глубокой тактильности, подразумевает травматическую активно-пассивную вовлеченность в вечно трансформирующееся становление материального мира в качестве отдельной плоскости субъективизации. В данной плоскости кожный покров как означающее переживает радикальную децентрализацию, в рамках которой формируется иное поле смысла, обозначенное де-дихотомизацией в отношении травмы и мифологизации целостности. Кожа как фундаментальное господское означающее, разграничивающее псевдо-внутреннее и
Негарестани недаром обращается к фрейдовскому тексту «По ту сторону принципа удовольствия» в поисках фундамента для теоретического проекта геофилософского реализма. Как известно, данный текст стоит особняком в творчестве Фрейда. Не будучи уверенным, насколько психоаналитический язык с материалистским привкусом биологии и эволюционизма найдет свое место в до определенной степени сформировавшемся векторе символического движения психоанализа, Фрейд дает себе волю осторожничать меньше обычного в попытке выявить фундаментальную континуальность между органической жизнью в целом и субъективностью как ее локальным, как на диахроническом, так и на синхроническом уровнях, проявлением. Концепт влечения к смерти, явившийся результатом размышлений Фрейда, зашедшего дальше, чем он того ожидал, в деконструкции субъективности, до сих пор является яблоком раздора и лакмусовой бумагой в психоаналитической и
Однако опыт ночи, падения и неантропоморфной, безапелляционной тактильности ре-онтологизирует, ре-энтропизирует субъективность через неизбежность и банальность матереального. На уровне посттравматического, интерсубъектно-объектного среза субъективности кожа, порез, ушиб, ожог, обезвоживание и обморожение наполняют зарождающееся текуче-номадическое поле смысла неантропоцентрической, животной, корпореально-матереальной диалектикой, выливаясь в то, что мы называем энтропоцентрической субъективностью. В контексте данной субъективности и того, что, соответственно, можно назвать энтропоцентрическим мышлением, ключевым является не только и не столько то, что травма наделяется статусом события, сколько то, что такого рода ‘новоявленные’ события до определенной степени мифологизируются и вписываются в нарратив, фантазм субъективности. На смену Имени с большой буквы приходит бесконечная игра в имена собственные, как в случае Сократа, в той форме, в которой к нему подступается Деррида через концепт хоры. Логос переплавляется в живое тело, мертвая речь — в теорию-как-поэзию [theoetry], а осмысление означает возвращение «к началу более старому, чем начало, а именно — к рождению космоса». Энтропоцентрическая парадигма, таким образом, самогармонизируется с первичной травматичностью Вселенной, с фундаментальным союзом между травмой и трансформацией и с контингентностью в качестве движущей силы бытия в мире. Назад к травме.