БЕСКОНЕЧНОСТЬ ШАПОРИНОЙ
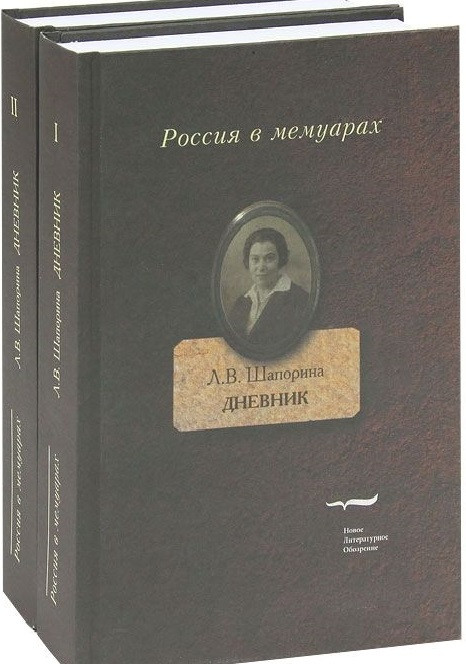
Я давно дочитала Шапорину, но
В юности, где-то с 14-ти до 17-ти лет, я зачитывалась Кафкой. Ездила в институт с неформатной, длинной книгой. Читала на станции в ожидании поезда, в поезде, на эскалаторе. Всюду Кафка простирал надо мной темные створы своего переплета. Я была тонкая и бледная, а книга увесистая и черная. Было в нашем дуэте что-то готическое. Понимающие люди смотрели на это с тревогой. Бывают такие столкновения человека с предметом, которые с самого начала отливают какой-то драмой. Но драмы не было. В мире вымыслов и идей, называемом для краткости fiction, я завсегдатай. Этот мир мне уютен в любых воплощениях.
То ли дело non-fiction. Читателям документальной литературы стоит придерживаться правила домоводства Ахматовой. Она оставила нетленный житейский совет: «не теряйте отчаяния». Это, пожалуй, не стоит воспринимать слишком буквально: больному читать о болезни, увечному об увечьях. Но в других случаях удар иголкой в рану укрепляет иммунитет. Хоть и редко, хоть и не массово, а душа человека поддается вакцинации. В частности, хороши прививки неприкрытой правды. И вот, к примеру, дневник Шапориной — мощнейшее средство.
Кому-то, кто узнает о жизни Любови Шапориной, скажем, из биографической справки, жизнь эта может показаться благополучной. Дворянка по происхождению, она выжила в революцию, пережила репрессии и блокаду, пусть не сразу, поздно, но устроила пресловутое женское счастье, вышла замуж за перспективного композитора, родила детей, пусть с трудностями, с перебоями, но могла заниматься любимым делом — кукольными театрами, переводами, пусть путем ухищрений, но прожила в собственной своей квартире эры бесчисленных уплотнений и умерла, вообразите, собственной смертью и в преклонных летах!
Стоит, однако, потереть верхний слой на этой картине, и вот уже отступают краски, открывая черты привычного ада. За революцией последовали коллективизация и разрушение деревни, пережитые Шапориной, как личное горе.
За коллективизацией — репрессии. Люди, с которыми еще вчера она сиживала за одним столом, пила чай и говорила об искусстве, исчезали не по одному, не по двое, а сразу десятками. Оставались семьи, вдовы, малые дети — сироты, и посильные заботы бессильного дружеского участия.
За репрессиями — блокада. Что уж о ней и говорить, но пару слов сказать стоит. Немногие в истории человечества знали столько же о превращении человека во
Час она протестовала, потом сдалась, подумала: «толку они от меня не добьются, доносами и провокацией я заниматься не буду, тут хоть меня расстреляй. А ну их к черту».
Доносов они не добились. Встречи продолжались недолго. Сведения она сообщала большей частью общеизвестные, как ей казалось, безвредные. Совмещала тактику непредательства с тактикой самозащиты. Но вряд ли дело было в сведениях. Смысл, конечно же, в том, чтобы человек вдруг не почувствовал себя человеком, хотя бы и на минуту. А то, кто их знает, этих героических защитников Ленинграда, что им пригрезится в их горячечных снах. Бред как бред. Но на то они и органы, на то она и бдительность, чтобы и в бреду не забывались, помнили свое место.
Дальше по списку женское счастье. Композитор надежды оправдал, написал оперу «Декабристы» (писал 33 года!), стал лауреатом сталинских премий. Не оправдало надежд только женское счастье. Муж изменял Шапориной. И как это водится, в особенно унизительных формах. Женщины, которых она в дневнике брезгливо награждает фамилиями комических актрис императорских театров, то и дело представлялись где-то его женой. Потом Шапорина в тех же учреждениях наталкивалась на недоуменные взгляды. Его жена? Видели мы давеча его жену, помоложе и покрасивее вас.
Он никогда не соответствовал ее ожиданиям. Она его нравоучала, и он скучал и гас. Искал беспечности в чужих объятиях. Странно, что они вообще-то поженились. По замыслу своему она была человеком несемейным. Брак закончился разводом (жениться второй раз он, впрочем, успел до развода!). Развод безденежьем и страхом быть выброшенной из квартиры.
Шестидесятисемилетняя Шапорина записала: «довела свой гардероб до того, что мне не в чем на улицу выходить. У меня совсем нет сапог, кроме рваных старых прюнелевых туфель Л. Насакиной. Мой единственный костюм (ему 10 лет) безнадежно продран на локтях и повсюду. Чулок нет, а шуба (моему бедному кроту тоже 10 лет), шуба такова, что я до сих пор хожу в летнем пальто».
Это, 46-ой год, можно было бы списать на войну. Но спустя десять лет трудовой жизни, картина не лучше. Бытовые зарисовки на полях торжественной советской истории.
Дочь — главная любовь ее жизни — умерла 11 лет. Сына-художника она любила и жалела, но в своих ежедневных проявлениях он разочаровывал ее — характером и бесхарактерностью, самостоятельностью и несамостоятельностью, выбором невесты, сходством с мужем, наконец. Трудно судить, была ли в этом его вина. Тяжелая требовательность к людям — качество Шапориной, которое яснее других встает со страниц ее дневника.
«У Анны Петровны великое счастье — не иметь детей, внуков. Судьба охраняла ее дарование, ей не пришлось его разменивать не ненужную мышиную беготню» — это о своей подруге, вдове художника Лебедева, пишет Любовь Васильевна Шапорина — мать и бабушка.
Ну и еще, для ясности: «если женщина хочет чего-нибудь добиться, она не должна обзаводиться семьей».
Семья, как бы в отместку за скепсис, сопутствовавший семейной теме ее размышлений, обернулась для нее худшим вариантом коммунальной квартиры. В конце сороковых оставленная сыном невестка Наташа с двумя детьми переехала жить к Шапориной. Тогда она лишилась того единственного, что было ей нужно, «личного пространства»; каких-нибудь десяти квадратных метров для какого-нибудь часа одиночества.
К началу шестидесятых в квартире Шапориной жило больше восьми человек. Члены семьи и добровольно подселенные жильцы (чтобы не подселили насильно). Вместе с Шапориной, в ее комнате, — жиличка Катя и внучка Соня. В соседней — невестка Наташа с молодым любовником и внуком Шапориной Петей. Ну и так далее. Вообще, эта коммунальная тема ее дневника удивительно кинематографична. Мог бы получиться зрелищный водевиль под бодрые звуки похоронного марша. С такой, например, сценой: невестка Наташа в кровь раздирает лицо своей дочери Соне в драке за пудреницы и шарфики, присланные в подарок Шапориной ее братьями из заграницы.
А теперь кульминация! Представьте себе, только на минуту представьте, что все это она записала. Вот это все: про аресты, доносы, малодушие, сломанные судьбы, про меха на плечах девок в блокадную зиму, про послевоенный дефицит, про советское расчеловечевание во всех областях и смыслах. Записала твердо и четко, с последней прямотой. Не тогда, когда уже было можно, а по свежему следу пережитого. Писала открыто, сидя ровно за письменным столом. Эта стройность, говорят, была фирменным знаком выпускниц Смольного. Записала не по недомыслию или беспечности, а с полным пониманием происходящего.
Такое, к примеру: «Что за жесточайшие времена мы переживаем. Тридцать восемь лет сидим за железной стеной во имя чего? Свободы? Нет. Отупения? Да. Чтобы никто не догадался, «что там на Западе, живое солнце светит»».
Или вот такое: «Как интересна должна быть для писателя эта эволюция человеческой психологии. Война, блокада, напряжение всех душевных, духовных сил. Пафос героизма. И потом серые мещанские будни, будни советские, т.е. беспросветные, страшные. Народ безмолвствует. Это выдержать и не свихнуться трудно. Труднее, чем выдержать блокаду».
Это кажется словесным воплощением смертничества. Бесстрашие трудно понять. Она пишет, как однажды ей приснился сон, что ее расстреливают. Выстрел, кровь на рубашке, и она падает в яму. «Страха не было». Но наяву страх был, если не смерти, она была верующая, то страданий, боли, потери себя. В общем, нормальный человеческий страх. Объяснения стоить искать в другом. Внимательный читатель заметит, что интонация ее записей мало меняется от первых страниц до последних. Шапорина начинает вести дневник тогда, когда жизнь была обычной жизнью. Имение Ларино стояло, родители были живы, братья были дома, подруга Наденька музицировала по вечерам, и свет свечей дрожал на девичьих запястьях. Об этом времени она вспоминала с удовольствием. Но когда она описывала его, удовольствия не было. Была беспощадная наблюдательность и неудовлетворённость, спружиненная в каждом слове. К концу второго тома читатель начинает эту неудовлетворённость хорошо узнавать. Шапорина относилась к породе людей, которые любое счастье переживают в тени его скорой утраты. Это отсутствие надежды на лучшее было ее органическим свойством. И только оно одно дает абсолютную трезвость взгляда. Она идеально подходила на роль свидетеля эпохи. Она никогда не теряла отчаяния.
Ее дневник — мучительное чтение. Читателю душно в шапоринской жизни. Читателю нужна передышка. Какая-нибудь необязательная, легкая ветка сюжета. Тут бы поставить за дирижёрский пульт писателя, автора утешительных вымыслов. Но за пультом стоит хроникер, а жизнь не дает передышек, как не дает их история. Разве что вместе с Шапориной можно послушать Юдину, играющую Шостаковича, полистать переводы Ахматовой. В мирные времена мы сильно недооцениваем силу искусства. Но в спертом воздухе иных эпох искусство служит чем-то вроде кислородной подушки. Вдохнул глоточек и забилось сердце, и можно еще протянуть. Вопреки усилиям внешней среды отвоевать часок у сумрака, заполняющего сознание.
Шапорина писала частный дневник. Но рассказала она о том, как вместе с усадьбами и храмами низринулась русская жизнь, и на ее руинах серым бурьяном выросла советская. Дневник Шапориной многое объясняет в сегодняшнем дне. От некоторых событий, описанных ею мы, к счастью, очень далеки. К несчастью, к другим мы близки по-прежнему. Многое не переварено, не пережито. Нужно преодолеть бесконечность Шапориной.
Юлия Сычева
