Станислав Львовский. Опыт о свидетельстве
Этот текст — предисловие к книге израильского поэта Александра Авербуха «Свидетельство четвертого лица» («Новое литературное обозрение», 2017), фрагмент из которой уже публиковался на L5.
Станислав Львовский
Опыт о свидетельстве
(О книге Александра Авербуха «Свидетельство четвертого лица»)
Поэзия и история (точнее — историография) находятся в отношениях, которые в лучшем случае можно было бы назвать сложными: в
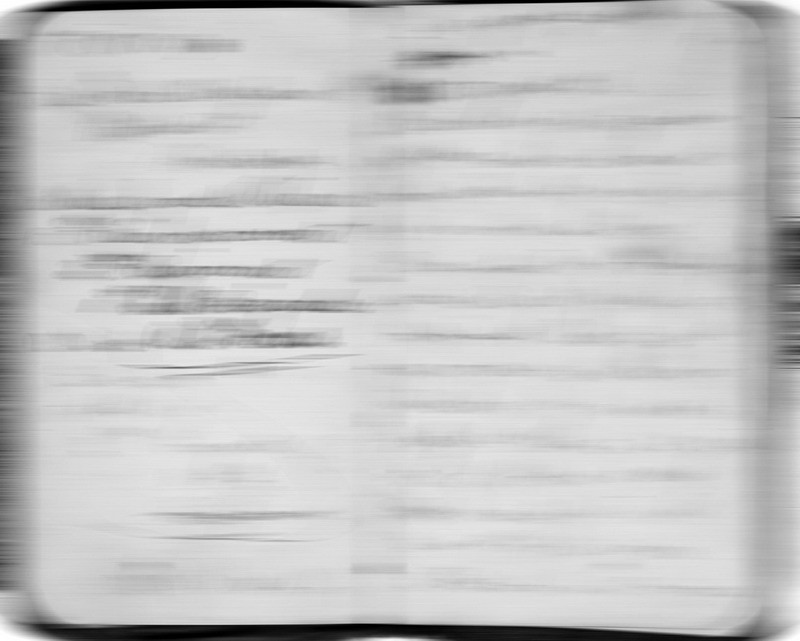
Книга, которую вы держите в руках, «Свидетельство четвертого лица» Александра Авербуха, не требует от читателя определиться относительно сторон в одной из самых долгих дискуссий, какие случались в науке о текстах (как бы эта наука ни называлась на том или ином этапе) за очень уже долгое время ее существования. Статус свидетельства подразумевает его публичную доступность, понятность. Но мне кажется важным рассказать здесь об этом контексте, поскольку из него становится гораздо понятнее, почему, как я полагаю, это очень важная книга для современной русской поэзии, а может быть, что и для русской поэзии вообще.
В сборнике — пять частей: «Пока тебя уже нет», «Вонйа», «Житие», «По воздуху сдержанности» и «Временные, но исправимые неудачи». В
«Пока тебя уже нет», «Житие» и «Временные, но исправимые неудачи» представляют собой длинные цепочки фрагментов, в которых повествование происходит не от лица автора, — а от чьего именно, в двух случаях из трех не очень понятно. «Пока тебя уже нет» — это половина переписки, т.е. письма, отправленные мужу молодой женщиной, у которой есть ребенок, дочь. Они живут где-то в Восточной Европе, между Германией и СССР [2] — на «кровавых землях», как называет эту территорию американский историк Тимоти Снайдер. Но земли эти еще не кровавые, а просто довоенная Восточная Европа: первое письмо датировано октябрем 1932 года, последнее — июнем 1934-го. Из писем, написанных на русском с обширными вставками немецкого, отдельными словами на идиш и других языках, иногда кажется, что их адресат уехал в Палестину — и женщина, которая их пишет, мечтает за ним последовать:
я конечно же горожанка
и перспектива тель-авива очень заманчива
но ich sehne mich so unendlich
danach etwas ruhe zu haben
если бы ты знал как я завидую
навсегда покидающим эти места
сегодня целый день приводила в порядок
наши письма — сколько бумаги!
любимый бедная наша жизнь
знаешь когда я буду подъезжать к яффе
вся эта бумага повиснет камнем на шее
А иногда — что он умер или исчез, и перед нами только половина переписки не потому, что автор не предъявляет нам вторую половину, а потому, что все эти письма остались без ответа.
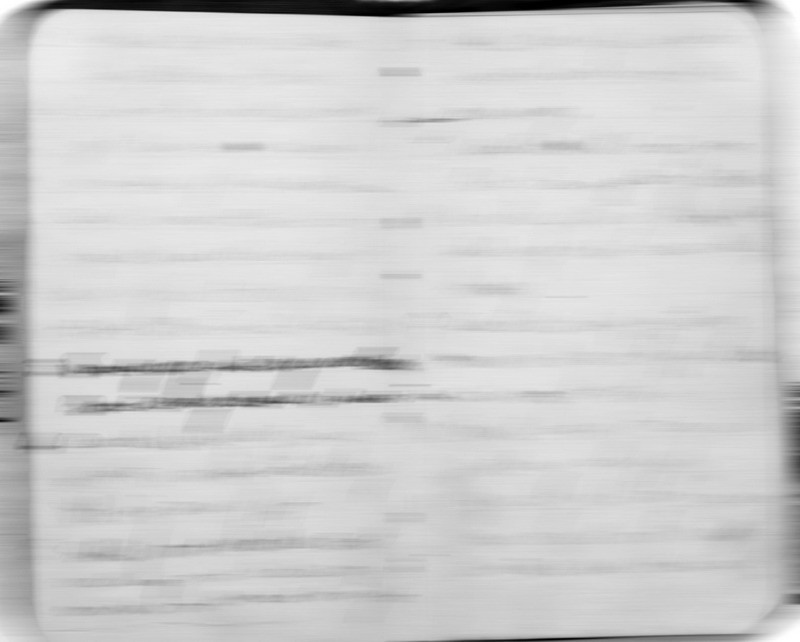
«Житие» — еще более длинный текст, устроенный отчасти похоже. Только на этот раз перед нами не письма, а, скорее, записанные воспоминания. Женщина, родившаяся в Бессарабии в конце XIX века, пересказывает в тридцати шести частях свою почти прожитую жизнь: погромы, революция, эмиграция в Румынию, возвращение в Одессу, переезд в Кишинев, начало войны, снова Одесса, эвакуация, Новороссийск, Сталинград, Киргизия и много чего еще. В 1957 году она попадает в Израиль, воспользовавшись возможностью выезда в Польшу, открывшейся после возвращения к власти Владислава Гомулки. Письма из «Пока тебя уже нет» создают посредством стилистики и многоязычия фигуру хорошо образованной, по-видимому, женщины, владеющей как минимум тремя языками. В «Житии», которое представляет собой устную историю, — или, точнее, автор предъявляет его как устную историю, — героиня говорит на неграмотном русском (что передано многочисленными орфографическими ошибками), то и дело вставляя слова из идиша и иврита:
мы ей предлагали парнев
они ей не нравились говорила она
что им нада только лапать
а о самейной жизни не мечтают
случился нам парень
из религиозной семи
но они 17л были сосланы в Сибир
а в 48 приехали в арцейну
и этот парень пошол работать об учебе
в то время и думать не лзя
и вот парень нам попался
они познакомились
понравились.
Наконец, «Временные, но исправимые неудачи» представительствуют в книге за третий тип исторического источника — дневники. Это сравнительно короткие отрывочные записи, из которых можно понять, что идет война, что автор дневника в Куйбышеве в эвакуации. Он очень беспокоится о родственниках, оставшихся в блокадном Ленинграде, и пересказывает, в числе прочего, несколько их писем оттуда. Наконец, автор дневника — музыкант.
Несмотря на то, что, по крайней мере, в последнем случае у персонажа есть более или менее очевидный прототип, перед нами, конечно же, не свидетельства per se, — но степень убедительности, достигаемой Александром Авербухом, такова, что я все время ловил себя на мысли о том, что передо мной реальные документы, реальные люди, их жизни, — а тексты только

немного отредактированы автором. Я не знаю, так это или не так, — думаю, что нет, — убедительность, о которой я говорю, не дается легко. Применительно к русской поэзии, по крайней мере, последних десятилетий — я не могу вспомнить ни одного настолько яркого примера.
Особенно поразительна эта убедительность как раз на фоне двух остальных разделов книги, — не в том смысле, что они неубедительны, напротив: оба они полны разной, но чрезвычайно концентрированной авторской поэтической речью:
и это сбылось
брат ухлопает брата
и третий сказал
а давайте на время
и они сказали давайте
небом застроен господь
(«По воздуху сдержанности»)
все медленно ссыпается туда
все оступается в распяты города
не помнит все ни пули ни поддыха
мы ссучимся в державны невода
поди сюда
ко мне
под смертную шумиху
(«Вонйа»)
Помимо прочего, из этих частей книги становится ясно, что дело не в протеической природе авторского дарования, которая облегчала бы вживание в чужую речь, — Авербух является обладателем своего собственного, очень особого голоса, ни на какой другой не похожего, — и тем удивительнее его способность отойти в сторону, дать место, где его герои могут писать и говорить — сами, своими словами и о себе. В разделе «Вонйа» авторская поэтическая речь изобилует при этом архаизмами и авторскими неологизмами: Авербух изобретает новый, собственный язык, пригодный для того, чтобы говорить о войне, — а частью (но не в целом) речь идет о совершенно конкретной войне в восточной Украине. Поэтому неологизмы соседствуют здесь не только с архаичным русским, но и современным (насколько я могу понять) украинским. Некоторые стихотворения здесь написаны по-украински целиком, некоторые — частично:
сіренький вовчок
хапає за бочок
тягне під лісок
іклами клацає
тычет мордой в сибирски меха
в черную русскую ночь
зад округлый
трется пьяным царским стыдом
наша речь утопилась
кто течением правит
спотыкается быстро встает
тянет нет
разбивается
кришталевим оскілком
застрягає соромом
на сонці червоному
грає та мре
Два языка и в этом отрывке и в стихах Авербуха вообще сосуществуют не на принципах дополнительности, — нельзя сказать, что украинский выполняет здесь некую особую функцию, будь то языка остранения или, как пишет об этом Кирилл Корчагин, языка, напрямую связанного с областью фрейдовского «жуткого», открывающего дверь в «досубъективную тьму» [3]. Напротив, в этом говорении языками — современными русским и украинским, своим собственным и архаичным русским (для Авербуха все четыре, некоторым образом, свои), — пишущий стремится обрести ту цельность, которая и позволяет поэзии говорить языками уже вовсе, казалось бы, далекими от личного авторского, как в трех обсуждавшихся выше текстах. Смена близких в
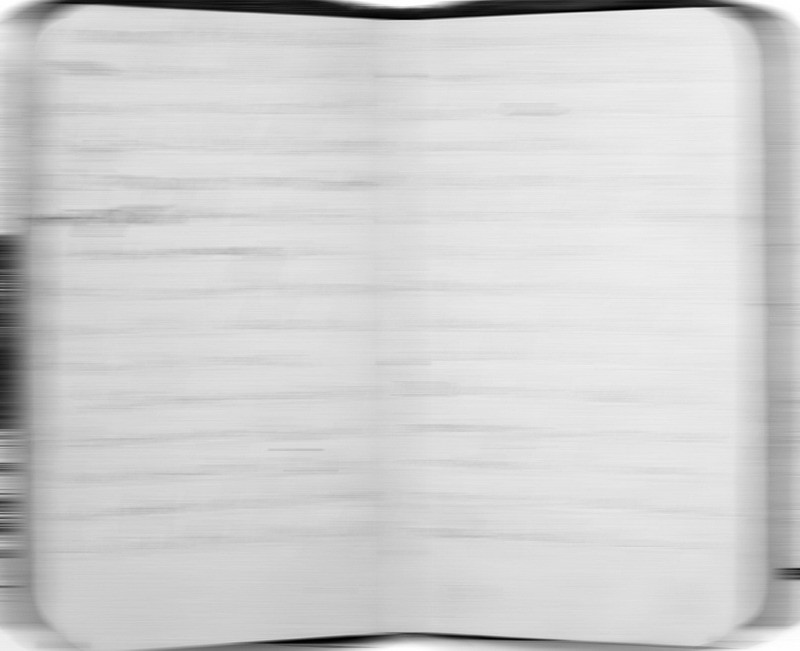
Возвращаясь к истории, — а по крайней мере на три пятых книга эта имеет дело с историей, — нужно сказать о том, что сегодня основная линия разделения между историей и поэзией существенно сместилась по сравнению со Аристотеля и даже Альстеда. Если прежде она пролегала между res gestae и res fictae — т.е. между тем, что происходило или было сделано, и тем, что было придумано, — то сегодня она в значительной степени определяется наличием или отсутствием повествования. В последние несколько десятилетий прошлого века целый ряд исследователей задались вопросом о том, как историческое повествование, нарратив, соотносится с «тем, что происходило» — или, если воспользоваться терминами формалистов, как фабула (т.е. последовательность событий) соотносится с сюжетом. Философ и историк Хейден Уайт в известной книге «Метаистория» на материале XIX века показал, что историки пользуются теми же приемами, что прозаики, авторы художественных книг, выявив в их трудах и наличие сюжетов, и драматическую композицию, и стилевые/жанровые черты, которые, как прежде считалось, являются исключительной прерогативой художественной литературы. Таким образом, перед историком стоит задача не просто изложить факты, но выстроить их в более или менее стройную систему, изложение которой имеет, как и художественное произведение, хотя бы начало, середину и конец, — превратить фабулу в сюжет. Сюжета, однако, нет у самой истории, которая происходит безостановочно и плохо поддается схематизации по образцу классического романа, о котором мы обычно можем сказать, кто из героев — хороший человек, а кто плохой, о чем и зачем нам рассказывали и, наконец, чем кончилось дело. Простое последовательное изложение фактов через запятую оказывается даже не хроникой, а, по классификации Уайта, анналами. В хронике уже есть хотя бы самые простые связки: «после того, как», «перед тем», «в это же время», — но хроника, как и анналы, ничем не заканчивается, обрываясь в настоящем времени хрониста. История же представляет собой связное повествование — но только постольку, поскольку мы желаем, чтобы оно было связным. Уайт задается вопросом о том, «какое желание задействуется, какое стремление воплощается фантазией, состоящей в том, что события представлены правильно только тогда, когда это представление демонстрирует формальную связность, присущую истории (story)» [4]? Видимо, история принимает форму цельного повествования, во-первых, потому, что последовательно происходящим событиям легко придать форму повествования, а
Из вышесказанного становится понятно, в чем проблема поэтической работы с историей. Последняя всегда принимает форму повествования. Поэзия же, если не говорить об эпосе, не нарративна, она не рассказывает историй, но представляет собой скорее мгновенные, моментальные отпечатки состояний. Так, разумеется, бывает не всегда: существуют и повествовательные поэтические тексты более или менее сложной структуры — будь то, по крайней мере отчасти, Cantos Эзры Паунда, знаменитые «Стихотворения Максимуса» Чарльза Олсона или, если говорить о более сложных практиках, поэмы Чарльза Резникоффа (в том числе вышедший недавно по-русски «Холокост»), работающие к тому же с документальным материалом. Однако те три текста Александра Авербуха, что вошли в «Свидетельство четвертого лица», обладают повествовательностью только внутри себя: они не являются и не могут являться частью большого исторического «сюжета», разве что на правах источников, — но источниками они тоже не являются, поскольку статус их не определен как документальный: мы ничего не знаем о героях Авербуха, и самое главное, чего мы не знаем, — это существовали ли они на самом деле. Между тем, перед нами явно работа поэта с историей — в ключе, который трудно или невозможно назвать повествовательным именно в историографическом смысле. Тексты эти легко проходят любой тест на соответствие общепринятым версиям событий — с поправкой, как и положено, на индивидуальную, не всегда точную человеческую память. Однако у нас нет способа установить, реальная ли женщина писала письма из «Пока тебя уже нет» и имеют ли соответствие в реальности события и люди из рассказанного в «Житии». Можно говорить о том, что здесь происходит работа не столько с историей, сколько с памятью, — но чья это память? И в каких отношениях она находится с историей?
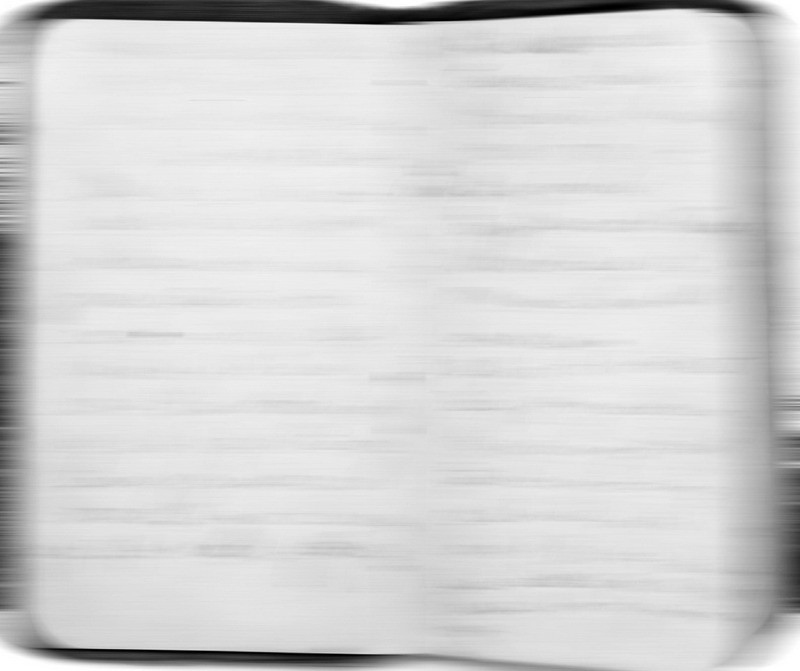
В поисках ответов приходится сперва ответить на другой, по виду более простой, но на самом деле более сложный вопрос: возможно ли вообще историческое «не-повествование»? Где поэзия как искусство мгновенного отпечатка может пересечься с историей как искусством выстраивания законченных повествований о происходивших событиях? Британский историк Робин Коллингвуд пишет, что «мы никогда не узнаем, как пахли цветы в садах Эпикура или что чувствовал Ницше в горах, овеваемый ветром», несмотря на то, что «доказательства мыслей этих людей у нас в руках» [5]. Эмоция не может быть документирована — она может быть выражена поэтически, но стихотворение является документом литературы, а не истории. Это последнее соображение, между тем, подвергается сомнению, в том числе и историками культуры — по крайней мере той их частью, что ассоциирует себя с «новым историзмом». Это направление, связываемое, в частности, с именами Стивена Гринблата, Кэтрин Гэллахер, Луиса Монтроуза, придает, среди прочего, особый статус анекдоту в первом значении этого слова — короткому рассказу о действительном микросообытии. Как пишет шекспировед Джоэль Файнмен, «анекдот… будучи повествованием о единичном событии, представляет собой литературную форму или жанр, уникальным образом соотносящийся с реальным» или, иными словами, анекдот «уникальным образом заставляет историю происходить, […] производит эффект реальности, заставляет случаться случайное, — благодаря тому, что он утверждает событие как нечто находящееся одновременно внутри и вовне исторической последовательности» [6].
Три будто бы документальных текста в «Свидетельстве четвертого лица» и есть своего рода «анекдоты», рассказы о единичных событиях, которые ничего не «доказывают» относительно большой истории. Но и функция их не в предоставлении «доказательств», а в том, чтобы мы могли «прикоснуться к реальному» — или чтобы «реальное могло нас коснуться»: одна из глав книги Гринблата и Гэллахер «Практика нового историзма» так и называется «Прикосновение реального» [7]. Каково же это «прикосновение к реальному», возможность которого поэзия — в том числе эта книга — дает нам своим «не-повествованием» об истории? Что дает нам (или что отнимает у нас) опыт, в котором мы переживаем это прикосновение?
«Опыт» здесь ключевое слово: поэзия в силу присущих ей структурных ограничений (впрочем, условных) не приспособлена к тому, чтобы снабжать нас отчетами о происходившем, res gestae, — исключения есть, но они единичны, и, конкурируя на этом поле, поэзия, как правило, проигрывает не только историографии как таковой, но и хроникам. Она может, однако, сообщая единичное событие или человеческую судьбу, дать нам опыт переживания истории. Философ Франклин Рудольф Анкерсмит различает три разновидности исторического опыта: объективный, субъективный и возвышенный. Первый — то, как люди прошлого сами воспринимали свой мир. Второй — субъективный исторический опыт — рождается из внезапного вторжения прошлого в настоящее. Как описывает это Анкерсмит, «историк исследует прошлое, и вдруг, словно бы ниоткуда, возникает неожиданное слияние прошлого и настоящего, как объятия Ромео и Джульетты» (перевод М.С. Неклюдовой) [8]. Прошлое здесь оказывается одновременно и невероятно близким, и очень далеким, а переживание субъективного опыта является мгновенным совпадением ощущений отдаленности и близости прошлого. Наконец, в историческом опыте третьего рода, который Анкерсмит называет возвышенным (sublime) [9], «прошлое рождается из травматического опыта историка, вступающего в новый мир и сознающего бесповоротную утрату прежнего мира» [10]. В этом опыте человек отделяется от самого себя, точнее — от своей прежней идентичности, существующей все еще в мире прошлого, — в то время как его новая идентичность, новое «я» существуют уже в новой реальности. Иными словами, в возвышенном историческом опыте человек осознает, что он больше не является собой прежним, — это опыт разрыва.

Книга Александра Авербуха уникальна в том смысле, что, с одной стороны, в трех своих текстах делает для нас возможным переживание исторического опыта того рода, которое Анкерсмит называет субъективным. С другой же стороны, два оставшихся раздела книги позволяют нам свидетельствовать и
восьмой день
третьего месяца стоя
засыпаю во сне
говорю
ударяюсь об угол соседнего дома
обернусь и ничего на этой улице
меня не знает
хотя бы дерево
и то горит мимо
(«По воздуху сдержанности»)
Набегающие друг на друга лексические пласты в разделе «Вонйа» — свидетельство не точно выверенной стратегии репрезентации, в которой каждому из языков (в широком смысле этого слова) отведена своя роль, — а, скорее, напротив, свидетельство шока при переживании разрыва с прошлым, свидетельство отчасти сознательных, а отчасти почти рефлекторных движений, направленных на восстановление собственной цельности. Если субъективный исторический опыт, опыт внезапного столкновения с историей мы переживаем в этой книге как непосредственный, происходящий с нами самими, то авторский опыт разрыва, отделения от себя, мы только наблюдаем — как будто со стороны, как будто бы вчуже.
Но это только до тех пор, пока не окажется, что и к нам этот опыт может иметь прямое, непосредственное отношение.
Примечания
[1] Аристотель. Поэтика / Пер. М.Л. Гаспарова // Аристотель. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. 4. С. 655.
[2] Судя по описанной в одном из писем встрече с Ициком Мангером, речь, скорее всего, идет о Варшаве.
[3] Корчагин К. Идентичности нет // Новый мир. 2015. №11. С. 170.
[4] White H. The Value of Narrativity in the Representation of Reality // Critical Inquiry. 1980. Vol. 7. No. 1 (On Narrative). P. 8.
[5] Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография / Пер. Ю.А. Асеева. М.: Наука, 1980. С. 283.
[6] Fineman J. The History of the Anecdote: Fiction and Fiction // The New Historicism / Ed. H.A. Veeser. London: Routledge, 1989. P. 60, 61.
[7] Gallaher C., Greenblatt S. Practicing New Historicism. Chicago: University of Chicago Press, 2001. P. 20.
[8] Анкерсмит Ф.Р. Возвышенный исторический опыт / Пер. под ред. А.А. Олейникова. М.: Европа, 2007. С. 366.
[9] Русское слово «возвышенный», которым обычно переводят английское sublime, отсекает важную часть значения последнего, наиболее близко, кажется, передаваемого по-русски оборотом «внушающее благоговейный трепет».
[10] Анкерсмит Ф.Р. Возвышенный исторический опыт. С. 367.
