Хулио Хуренито и этика Сверхчеловека
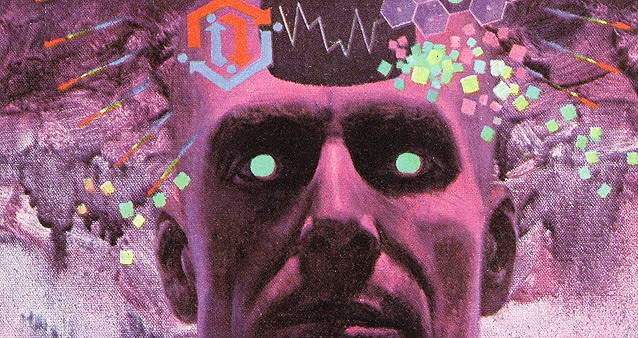
Фигура Хулио Хуренито становилась предметом философского рассмотрения реже, чем она того заслуживает. Да, он всего лишь литературный герой, плод фантазии писателя Ильи Эренбурга, но иные герои обладают большей философской глубиной, чем живые люди. Литературовед, анализируя персонажа, не всегда способен увидеть, какие комплексы идей, какие духовные ветры эпохи нашли в нём своё выражение. Там, где живой человек, даже ведомый идеей, остановится в нерешительности и свернёт с пути в непоследовательности, персонаж по прихоти и смелости автора пойдёт до конца.
Хуренито — из тех, что, как кажется на первый взгляд, идут до конца, доводя до предела любую идею. А иногда даже до абсурда, до жутких следствий из казавшихся невинными посылок, как бы показывая окружающим конечный итог, до которого они потом уже сами не захотят доходить. Эту общественную функцию в случае Хуренито часто называют провокаторством, и тот не отказывается: он провоцирует общество идти вперёд, не застревая на первом шаге. Вот, к примеру, изобретается оружие массового поражения — всё-таки в разгаре Первая мировая война, — и оно на практике используется правительствами для уничтожения армии противника. И Хуренито, получив разработки оружия, очень похожего на атомное, предлагает главам противоборствующих государств свои услуги в его производстве и применении. И, словно ужаснувшись логичным последствиям этой смертоносной гонки вооружений, те отказываются. Впрочем, Хуренито не унывает, ибо знает: его оружие ещё найдёт своё применение, просто, может быть, не в этой войне и не на европейской земле, а против «каких-нибудь японцев».
Или еврейские погромы… Будто предчувствуя тенденцию эпохи, Хуренито предлагает устраивать массовые убийства евреев и продавать на них билеты. Примеров, когда этот романтичный провокатор чувствует направление ветра и пытается забежать вперёд паровоза общественного развития, в книге довольно много. В этом смысле расшифровка его инициалов как римского числа ХХ весьма тонка: да, герой Эренбурга — воплощённый ХХ век со всеми его невиданными вершинами и безднами. А пока до его подлинных высот далеко, Хулио Хуренито тянет робкое человечество к апогею падения.
Он как будто следует рекомендациям Заратустры, учившего о Сверхчеловеке: падающее нужно подтолкнуть. В падении в данном случае нет ничего фатального. Историческое движение человечества в то же время можно назвать и восхождением, и желающих видеть в любом изменении прогресс предостаточно. Хуренито — отчаянный прогрессист: всё, что впереди, для него ценней того, что осталось позади. Прошлое — всегда падающее, и его нужно подталкивать. Хуренито демонстрирует имморализм Сверхчеловека: он находится по ту сторону добра и зла, он просто не рассматривает свои пугающие предложения с точки зрения «человеческого, слишком человеческого». И это, на мой взгляд, делает его рабом истории: мексиканский провокатор готов служить ей, потому что безоговорочно поверил в будущее, сказал ему своё великое и принципиальное «да», и не страшится принять всё, что готовит ему историческое бытие человечества. И не только принять, но и ускорить своими силами, ведь он действует в ситуации смерти Бога — разве не «родитель» Сверхчеловека Ницше констатировал его убийство, передав, фактически, всю власть над историей людям? И теперь остаётся сделать руководящим принципом своего исторического бытия волю к власти — принципиальное утверждение мира и человека в нём.
Но есть и ещё одна идея, которая вынуждает Хуренито-Заратустру принять изменение мира без сантиментов по ежесекундно утрачиваемому. Давайте послушаем Фридриха Ницше: «Теперь я расскажу историю Заратустры. Основная концепция этого произведения, мысль о вечном возвращении, эта высшая форма утверждения, которая вообще может быть достигнута, относится к августу 1881 года: она набросана на листе бумаги с надписью: «6000 футов по ту сторону человека и времени». Последние слова более-менее понятны: положение Сверхчеловека — действительно «по ту сторону», ведь он стоит как бы впереди, а значит, вне налично данного сущего, и в том числе человека и его времени. Он зовёт их к себе, из будущего помогая осуществиться внутри заложенной необходимости. А то, чего он в своём будущем не видит, он предлагает отбросить, как балласт. Но вот как быть с вечным возвращением, этой самой тёмной идеей Ницше?
Учение о вечном возвращении не так оптимистично, как может показаться на первый взгляд; более того, для Заратустры, предвестника рождения Сверхчеловека, оно поистине трагично: «А вечное возвращение даже самого маленького человека! — Это было неприязнью моей ко всякому существованию!» Концепция цикличности сущего, как она впервые явилась Заратустре, не способствует слепой радости по поводу будущего, а препятствует ему. Но это этап «заболевшего» Заратустры, не способного примириться с возвращением всего «низкого и маленького». Однако с точки зрения ницшеанского нигилизма возвращение социальных условий, воспроизводящих «маленького человека», неизбежно. Констатация смерти Бога сделала проблематичной метафизическое обоснование телеологии — учения о наличии у мира цели и смысла развития. Мир без цели не прогрессивен и не регрессивен, он в
Хулио Хуренито заболел этой «болезнью Заратустры». Весьма характерный эпизод — заседание комиссии по организации нового искусства, состоявшееся уже в молодой советской республике. Хуренито принял революцию, поверил в её обновленческий потенциал и стал трудиться ради скорейшего построения светлого коммунистического завтра. Но регулярно сталкивался с тем, что вечное возвращение происходило здесь не в форме «сближения будущего с существующим миром», как сформулировал Ницше, а в форме сознательного втаскивания прошлого в строящееся будущее. Это прошлое тащили за собой люди, не готовые к радикализму Хуренито. Они хотели всего лишь поощрять новое искусство дополнительными пайками, оставив классическим художникам обычные, а он — запретить искусство как таковое, растворив его в практических задачах коммунистического общества. Тем более что все эти модные авангардисты и сами явились для убийства традиционного искусства. Так почему бы кубистам не заняться проектированием остановок общественного транспорта, вопрошает Хуренито. А идея с поддержкой деятелей искусства — это лишь «новая вывеска над старой пакостью, впрыскивание камфары уже похолодевшему трупу… Уничтожая искусство, надо показать, что оно, и только оно виновато в том, что хотело пережить самого себя». Естественно, предложение не прошло — промешал «мещанский эстетизм многих революционеров».
Однако непредвзятый взгляд сразу же заметит важный нюанс: Хуренито, помогая коммунистической идее осуществиться и предлагая для этого радикальные меры, действует как провокатор, но отнюдь не как «выздоровевший» Заратустра. Персонаж Эренбурга болел той же болезнью — неприятием отвратительной современности, но до излечения — в виде принятия и утверждения — дело у него так и не дошло. Хуренито до самого конца остался поборником социального прогресса, заставляющим мир двигаться к
Логично, что мексиканский авантюрист потерпел фиаско, предопределив себя к бесславной кончине где-то под Конотопом от рук бандита, позарившегося на сапоги. И в предсмертной речи Хуренито не смог преодолеть «болезни Заратустры». «В самом начале угрюмого величественного дня я говорил уже, забегая вперёд, как пёс, принюхиваясь, прислушиваясь, о дне завтрашнем. Алексей Спиридонович как-то спросил меня, неужели я так ненавижу эту жизнь? Нет, не ненависть, а величайшая нелюбовь опустошила моё сердце». В свете этой нелюбви становится понятной и объяснимой тяга ко «дню завтрашнему». Никакого величайшего утверждения жизни здесь быть не может, ведь жизнь — это именно момент «здесь-и-теперь», ежесекундно переживаемое настоящее, а вовсе не сконструированное сознанием «завтра». Поэтому, хотя Хуренито вплотную подошёл к постижению вечного возвращения как закона мироздания, последнего шага он не сделал, не доведя до предела самую важную для него идею. «Чтобы спираль мира ринулась к новому счастью, должен быть описан круг столетий, круг крови, пота, железный круг. Я вижу полдень этого встающего дня». Да, Хуренито постиг движение по кругу, но и в последний свой миг не смог отказаться от мечты о разрыве цикличности зла — наступлении принципиально нового, сияющего будущего.
Внешне это похоже на речи Заратустры о неизбежном приходе Сверхчеловека. Но если этот приход понимать как прекращение вечного возвращения «маленького человека», то Заратустру тоже ожидало бы фиаско. Нет, подлинная этика Сверхчеловека должна дать такой принцип, который бы не отменял вечное возвращение, а утверждал себя на нём как на метафизическом базисе. Вот вариант: поступать надо так, что даже зная о бесчисленном повторении твоего поступка во времени, ты всё равно поступишь так, а не иначе. При этом ты отдаёшь себе отчёт, что исторические условия каждый раз будут иными, ведь элементы мира возвращаются хаотично и каждый раз складываются в новую, непохожую на предыдущие конфигурацию. Значит, ты должен освободить свой поступок от влияния на него исторических условий — перестать быть рабом понятой телеологически истории, каким остался Хулио Хуренито. Подлинно нравственный поступок в этом случае станет беспредпосылочным: он уже не будет соотноситься с практическими, меркантильными и всякими прочими соображениями человеческого приспособления к миру. Он будет проистекать только из
Нравственный императив Сверхчеловека не содержателен — он не предписывает никаких конкретных поступков или представлений о добре и зле. Он столь же формален, как предыдущие знаменитые моральные законы — золотое правило нравственности и категорический императив Канта. Но эти законы были «человеческими, слишком человеческими»: они не вышли из круга взаимоотношений между индивидами. Основным способом регуляции оставался страх получить на свой поступок такое же ответное действие. В самом деле, почему я должен поступать по отношению к Другому так, а не иначе? Потому что боюсь столкнуться с таким же его поступком по отношению ко мне, и в этом смысле золотое правило и категорический императив — всего лишь способы разрушить железное и неотвратимое действие древнего принципа «Око за око, зуб за зуб». Даже если, как у Канта, оно будет исходить не непосредственно от человека, ставшего объектом моего проступка, а ударит по мне благодаря превращению этого проступка во всеобщий закон, применяемый, в том числе, и ко мне, глубоко скрытые и весьма низменные причины моей нравственности от этого не изменятся. По сути, это всё та же мечта о преодолении цикличности зла, что лежала в основе надежды Хуренито на «день завтрашний».
А вот императив Сверхчеловека, принявший неотвратимость этой цикличности, учит меня поступать нравственно даже среди кромешного зла и без надежды на приход светлого завтра. Он ставит передо мной не Другого, а вечность. Я поступаю так не потому, что боюсь возмездия, и не потому, что рассчитываю на выгоду здесь-и-сейчас, а потому, что необходимость именно такого поступка вытекает из моей самости. И повторись всё в миллиардах новых исторических конфигураций, я поступлю так же. Нет больше никакой «всеобщей воли», которой опасался «маленький человек» и которую он хотел сделать медиатором собственной нравственности. Есть только моя воля, и только она утверждает нравственность. Подлинную нравственность Сверхчеловека, принцип приоритета самости над внешней данностью, условие принятия налично данного сущего через равнодушие к нему. Что теперь мир, если передо мной вечность? Смелость взглянуть ей в глаза — достоинство Сверхчеловека, или, на самом деле, просто человека, разрушившего прежние идолы молотом смелого и весёлого философствования.
