Онтология как «экономикс», или либертарианское переворачивание Платона
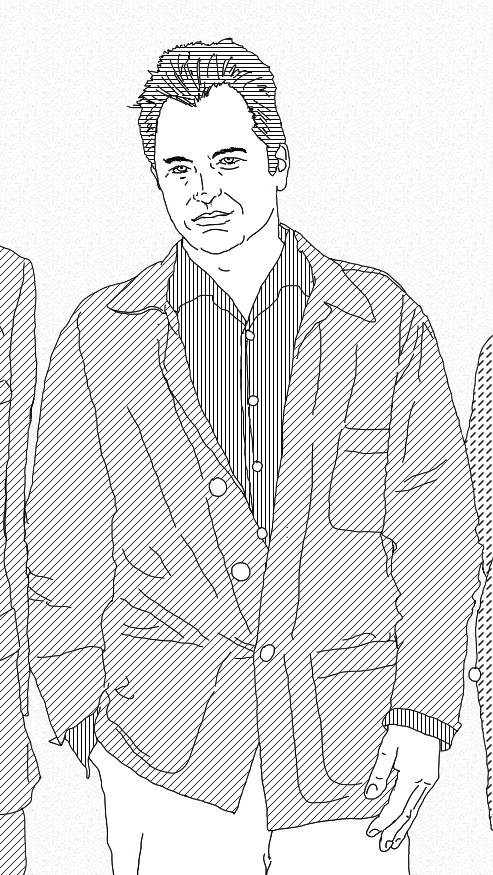
Маркс в тринадцатой главе «Капитала» (в сноске 89) пишет: «всякая история религии, абстрагирующаяся от… материального базиса, — некритична… много легче посредством анализа найти земное ядро туманных религиозных представлений, чем, наоборот, из данных отношений реальной жизни вывести соответствующие им религиозные формы. Последний метод есть единственно материалистический, а следовательно, единственно научный метод».
К сожалению, зачастую марксисты, в том числе и я, в производстве критического исследования той или иной идеологической сферы (теории или произведения искусства) забываем о материальных предпосылках оной. О необходимости выступать не только и не столько кабинетным аналитиком, сколько полевым археологом, отыскивающим зарытый в почвах материалистический фундамент любых идеальных построений. Например, в создаваемой критике современного философа из Парижа, Квентина Мейясу, я часто останавливаюсь на структуре его умопостроений, а также на возможных последствиях подобной теории при реализации и сопоставлении её с другими концепциями. Но довольно мало внимания уделяю тем общественным, производственным и базисным условиям, которые дают условия для формирования именно таких философских изысканий.
И благие цели, обозначенные в самостоятельном заключении этой не вышедшей работы, не оправдывают целиком её марксистской принадлежности и значимости. Но не так давно открытая деталь в спекулятивном материализме Квентина Мейясу, полагаю, сможет внести кое-что новое в критическое исследование о французском буржуазном философе. Конкретно далее, через размышление по аналогии, будет показана соотносимость онтологического стержня в работе автора «После конечности. Эссе о необходимости контингентности» и политэкономических оснований буржуазного общества. И то, как из этой соотносимости получается крайне сюрреалистичное оправдание капитализма.
Итак, сначала несколько слов о критикуемом. Квентин Мейясу, ранее участвовавший в движении т. н. спекулятивных реалистов (борцов с корреляционистами, более известными нам под именем постмодернистов; подробнее в коротком очерке (журнал «DOXA») и заметке Дмитрия Кралечкина; краткое изложение самой концепции Мейясу от него самого — здесь), автор книг «После конечности» и «Число и сирена», а также статей «Дилемма призрака» и «Время без становления», переведённых на русский. Стартовав с диссертации «Божественное несуществование», философ разрабатывает теорию, способную адекватно описать мир таким, какой он есть на самом деле, т. е. без созерцания и влияния на него субъекта. Начиная с ревизии Канта и экспроприации «протяжённой» субстанции у Декарта, Мейясу приходит к выводу, что адекватное и научное описание действительности даёт только математика. И решается найти её философские основания, т. е. объяснить, почему она способна на подобное схватывание истины. И в своём поиске, очищая философию от догматизма субъекта, например, от догматических и религиозных категорий необходимости и целого, Квентин через необычный и спорный платонический диалог приходит к своей авторской онтологии. А именно к пониманию бытия как
Не буду отягощать текст описанием всех ходов в размышлениях Квентина Мейясу и нюансами аргументации идей философа в «После конечности». Этому будет посвящена отдельная большая работа. Здесь же предлагаю внимательнее приглядеться к тому, что автор обозначает как контингентность и её необходимость. Контингентность, если вернуться к более привычному как житейскому языку, так и философской лексике, это случайность. Но случайность, возведённая в ранг необходимости. Всеобщего закона мироздания, вселенной, нашей реальности. Контингентность — это сверх-случайность, гипер-случайность, или «контингентность такова, что может произойти все, что угодно — даже то, что ничего не произойдет, и все останется как есть» (с. 89).
Контингентность — отрицание как категории необходимости, так и категории случайности, ведь случайное существует в мире фундированных законов, необходимых оснований, причинно-следственных связей. В мире Квентина Мейясу законы вселенной могут измениться в любой момент, без всякой на то причины. И это радикально отличает концепт французского автора от теории переменной скорости света или гипотезы изменения физических констант Вселенной со временем. Ведь обе они предполагают некий закон законов, закон развития материи от одних форм к другим, где через случайности пробивается необходимость, например, движение атомов в сторону организации органической жизни, а после и социальной. Мейясу же вместо закона развития материи предлагает закон (не-закон, как он сам уточняет) того, что всё может измениться просто так, без всяких на то оснований или необходимых причин.
Мироздание как
А теперь, после авторских хоррор-литературных мазков хаотичного бытия, включим силы аналогии и абстракции. На что похож мир, где есть господство случайности как единственной необходимости? Как порядка или диктата самой вульгарно понимаемой анархии из смеси событий и фактов? Разумеется, на развитое товарное общество, т. е. на капиталистическую формацию и рыночную экономику. Отправная точка того исследования, которое проводит Мейясу, есть следствие капиталистического, овеществлённого, по Лукачу, сознания, которое заменяет ясный научный взгляд некритичными розовыми очками. Отказ Квентином от категорий необходимости и случайности приводит к экстраполяции турбулентности капитализма на само бытие. И по сути необузданный порядок не-порядка Гипер-хаоса — это старая и печально известная невидимая рука рынка. И стиснутая в суровый экономический кулак она, как и необходимая контингентность, может сметать целые миры и цивилизации, одарять одних и истреблять миллионы других. Когти случайности, как единственный закон экономики, могут десятилетиями выстраивать индустриальные империи, а потом за секунду трагедии превращать их в ржавые пустыни. Или, как писали задолго до меня и Квентина Мейясу: «…особенность каждого общества, основанного на товарном производстве, заключается в том, что в нем производители теряют власть над своими собственными общественными отношениями. Каждый производит сам по себе, случайно имеющимися у него средствами производства и для своей индивидуальной потребности в обмене. Никто не знает, сколько появится на рынке того продукта, который он производит, и в каком количестве этот продукт вообще может найти потребителей; никто не знает, существует ли действительная потребность в производимом им продукте, окупятся ли его издержки производства, да и вообще будет ли его продукт продан. В общественном производстве господствует анархия… Движущая сила общественной анархии производства все более и более превращает большинство человечества в пролетариев, а пролетарские массы, в свою очередь, уничтожат в конце концов анархию производства. Та же движущая сила социальной анархии производства превращает возможность бесконечного усовершенствования машин, применяемых в крупной промышленности, в принудительный закон для каждого отдельного промышленного капиталиста, в закон, повелевающий ему беспрерывно совершенствовать свои машины под страхом гибели» (из «Анти-Дюринга»).
Возможно, это лишь совпадение, а тождество необходимости контингентности и господства анархии в товарном обществе иллюзорно. А критический взор в фолиантах Мейясу надо обращать лишь на логически необоснованные ходы, например, на то, как очередная попытка вытеснить противоречия из реального мира приводит к внутренней противоречивости теоретической конструкции автора. В конце концов, что может быть противоречивее необходимой случайности? Потому примечательны в «После конечности» ссылки на Карла Поппера с его принципом фальсификационизма, который весьма проблематично проходит проверку на научность самого себя. Но об этом и иных деталях есть работы Дианы Хамис и Дмитрия Кралечкина. Вернёмся к случайному или необходимому совпадению онтологической модели (карты бытия или оснований физической действительности, по мнению Мейясу) Квентина с основаниями капиталистической экономики. Что подтверждает причинную связь между ними, хотя бы косвенно? Ведь кроме попытки вскрытия основ мироздания Мейясу объявляет только о борьбе с постмодернизмом в философском мышлении. И добавляет, что другие имена выбранного им врага это корреляционизм, либо фанатизм, либо скептицизм, либо религизация мышления. И несмотря на оставленное для весьма диковинного божества место в финале книги (связанного с этическими воззрениями автора здесь и здесь), можно подумать, что Квентин Мейясу есть некая помесь лавкрафтианского натурфилософа и борца с религиозным фундаментализмом (точнее, с его философскими обоснованиями). Но всё как всегда портят «примечания мелким шрифтом».
Классовое бессознательное, порождаемое развитым товарном обществом, скрывается, но при должном взгляде и раскрывается тут: «…отрицание требует признать, что не существует легитимного способа показать, что определенное сущее должно существовать безусловно. Можно добавить, кстати, что такой отказ от догматизма является минимальным условием критики идеологии. Идеология не отождествляется с некой обманчивой репрезентацией, это форма псевдорациональности, цель которой — установить, что то, что существует, действительно должно существовать с необходимостью. Критика идеологии, которая состоит в том, чтобы доказать, что социальная ситуация, которую представляют как неизбежную, на самом деле является контингентной, сущностно совпадает с критикой метафизики, понимаемой как производство иллюзорных необходимых сущих. Мы не собираемся обсуждать здесь современный отход от метафизики. Догматизм, утверждающий, что именно этот Бог, или этот мир, или эта История, или, наконец, этот актуальный политический режим существует с необходимостью, и необходимо таков, каков он есть, — такой абсолютизм принадлежит эпохе мышления, к которой невозможно и нежелательно возвращаться» (с. 44).
Но разве это не доказательство как раз обратного? А именно левой направленности автора, который нашёл универсальный способ демонтажа любой идеологической гегемонии того или иного класса? Разве критика идеологий не составляющая часть марксизма? Только вот критическое ружьё обязательно даст осечку при «стрельбе» по австрийской экономической школе, либертарианцам и иным апологетам рынка. Легко «стрелять» по тем, кто находит ту или иную необходимость в виде исторического развития, справедливости или традиций для будущего, прошлого или текущего социального порядка. Но если они скажут, что необходимость их социального порядка заключается в контингентности, т. е. случайности как невидимой руки рынка, то что тогда сделает такой критик? В одном из переведённых интервью Мейясу на вопрос, как показать в искусстве эту самую контингентность, беспричинное нарушение законов, он отвечает: «Но это очень трудно продемонстрировать. Проблема, быть может, в том, чтобы проанализировать, как художники пытаются изобразить случайность, что конкретно они делают для того, чтобы сделать её ощущаемой? У нас есть что-либо “случайное”, как мы можем это нарушить? Каким образом я могу прорваться в эту узаконенную случайность так, чтобы это не было сделано случайно? Вот в чем сложность». Ирония в том, что контингентность, поставленную в принудительный закон, мы наблюдаем каждый день в падениях и росте цен на хлеб и гречку, через ползучие рецессии из новостей и в ощутимости реальной стоимости наших зарплат. Поэтому даже не пытливый историк буржуазной эпохи, а средний обыватель объяснит случайность, как закон, лучше многих маститых теоретиков и виртуозных художников.
Таким образом, неосознанное перенесение законов товарного мира на онтологический скелет вселенной, а потом обратное их применение к рыночному порядку приводит не к победе скептического кинжала и критического ружья, а к полному разоружению. А далее и вполне логично критика всего переходит в свое иное — в защиту одного, единственного и абсолютного. Т. е. капитала как ядра и порождающей причины всех правильных и необходимых из самих себя отношений, к победе и торжеству анархии производства. По сути перед нами возрождается в новом обличии платоновская модель идеального общества из «Государства». Если обратиться к комментариям Алексея Фёдоровича Лосева и вспомнить исторический контекст социально-политических идей основателя Академии (разложение полисной системы, нарастание общественных противоречий и поиск Сократом, Платоном и их последователями способов избежать кризиса в Афинах и Элладе, обернувшийся поражением партии философов), станет понятна трагедия как теоретических фантазий автора, так и его собственной жизни. С другой стороны, новейшая реинкарнация государства царей-философов в виде рыночной контингентности Мейясу, разумеется, фарс. К сожалению, всё опять по старику Марксу. Раньше Благо как подлинное бытие, т. е. бытие необходимое и целое, становилось целью и идеальной схемой для формирования общества будущего. Теперь полнейший беспорядок как сомнительное основание реальности становится обоснованием для существующего экономического режима. А субъективную господствующую цель в рыночном сообществе, личную наживу и беспредельный рост капиталов, сложно согласовать с
В конце концов идеологическая иллюзия, порождаемая обезличенным капиталом в философскую область, стихийно стремится не столько изменить наши представления о природной, физической реальности, сколько оправдать наличную Систему. Ведь на что в конечном счёте похоже мироздание без категорий необходимости, целого и субстанции? Вспомним ещё раз Платона. В разборе диалога «Парменид» Пиама Павловна Гайденко (из работы «История греческой философии в её связи с наукой») заключает: «Он [Платон], как мы видели, показывает, что условием познания (и не только познания, но, что важно, и самого бытия) единого является его соотнесенность с другим; а другое единого есть многое. И наоборот: условием познаваемости (и существования) многого является его соотнесенность с единым, без этого многое превращается в беспредельное (апейрон) и становится не только непознаваемым, но и не сущим (Платон, как мы знаем, часто называет беспредельное небытием, “ничто”)». Речь здесь, в контексте поиска материальных корней у идей Мейясу, не просто о том, что французский писатель, как по Ильенкову, выбросил одну половину категорий для «разрешения» реальных противоречий. Случайное не может быть без необходимого, а единичное (многое) без целого (единого) — это, допустим, уяснили. Но суть дела в том, что капитал ради своего безграничного роста в общественной жизни как раз избавляется от той самой половины категорий, связанных с целостностью.
Ведь современная модификация капиталистического способа производства, связанная с т. н. процессом виртуализации в экономике, использованием новейших технологий (которые выходят за рамки капитализма как такового), приводит к производству человека как потребителя товарных потоков особым образом. Капитализму, чтобы оставаться целым, эффективной системой с внутренним самовоспроизводством, для реализации всего многообразия предложения для спроса, нужно этот самый спрос создавать. Для этого необходим индивид, который сможет потреблять даже взаимоисключающие товары и услуги. О чём и пишет Марина Бурик в «Человек и экономика в виртуализированном мире»: «Производство целостной картины мира становится невыгодным и ненужным в системе виртуализированного капитализма, а потому излишним. Оно отмирает. Его заменяет производство способности восприятия и переработки информации определённого рода, способность проводить операции над ней и самому операционализироваться с её помощью. Требуются только общие навыки, необходимые для восприятия любой информации, без которых индивид не смог бы функционировать в системе производства образа жизни, и частичная компетенция, позволяющая быть рабочей силой в определённой отрасли». А по итогу: «…производится клиповость сознания современного фрагментарного индивида. Клиповое сознание предполагает разобщенность и несвязность взглядов на мир. Индивид верит в самого примитивно представляемого бога (по религиозным праздникам) и в науку одновременно, разделяя единицы информации, относящиеся к науке и к религии, но не связывая их между собой».
Современный капитализм, капитал эпохи постмодерна для своего повышенного воспроизводства разрушает привычные человеческие связи, целостность социума, семьи, коллективов. Он воспроизводит то, что Марина Бурик назвала фрагментарным индивидом, а некоторые социологи и иные исследователи обозначают как тенденцию атомизации. Эпидемия одиночества, общество потребления, отчуждение в разных формах, как от здоровой, человеческой культуры, так и людей друг от друга (т. е. от сущности человека как такового), производство и господство мнимой коллективности, инфицированная разложением социализация и многое другое — вот иллюстрация, казалось бы, абстрактных и удалённых от живой жизни платоновских понятий в его наитруднейшем диалоге «Парменид». Ведь сейчас мы видим, как принцип «многого» побеждает принцип «единого», а выражаясь языком Платона: «множественное “в тот момент, когда оно не причастно единому”, представляет собой нечто весьма своеобразное: какую бы малую “часть” его мы ни взяли, она сама рассыпается, растекается на бесконечно многие “части”, а потому ее даже нельзя назвать частью, ее вообще никак нельзя ни назвать, ни обозначить, кроме как беспредельностью, текучестью или, как ее еще характеризует Платон, “природой многого”. То, что не причастно единому, не есть вообще “нечто”, для него нет слова, нет “логоса”, оно — алогично, неназываемо и неуловимо. “Если постоянно рассматривать таким образом иную природу идеи саму по себе, то сколько бы ни сосредоточивать на ней внимание, она всегда окажется количественно беспредельной”».
Отказ от необходимости единого в общественном бытии, победа индивидуализма и торжество тоталитаризма потоков потребления и есть многое, победившее единое. Но фрагментация и хаос могут господствовать только с помощью единого. Ведь даже для тотальности потребления и плюрализма мещанского культа нужна сама тотальность. Этот особого рода розлив тоталитаризма приводит к умалению социальной сущности человека, а значит и его самого. Вырождение человеческого бытия в нечеловеческое небытие. Словно по Платону, наше общество рассыпается на бесконечно малые части, подобные ничто, в которых ничего сущностного и существенного не остаётся. Бытийствует только армия подобных в своём мнимом различии потребителей, похожих по внутренней пустоте, разобщённости и одиночеству на фрактальную фигуру. Ведь фрактал как
[Источник: «Заря»]. В дальнейшем мы еще вернемся к данным тезисам в рамках новой попытки критической картографии.
