Сеансы кинотерапии: дневниковый фильм как практика собирания себя
Опубликовано в пято выпуске самиздата о кино «К!» (c. 88–101)
Я снимаю домашние фильмы, следовательно, я живу. Я живу, следовательно, я снимаю домашние фильмы.
Из фильма «Уолден: дневники, записки, наброски» (1969)
На одной из лекций в Коллеж де Франс 1981–1982 годов Мишель Фуко говорит:
«Одной из наиболее существенных проблем сегодня могла бы стать политика нас самих в строгом смысле слова» [1].
«Политика нас самих» — это практики становления субъектом, изменения себя в своем бытии. Фуко исследует мнемонические, телесные, терапевтические практики поздней Античности и раннего христианства, хотя сам проект предполагает выход к современным политикам себя, способам быть субъектами. В этом эссе я не стану обращаться к уже описанным Фуко практикам, чтобы обнаружить их аналогии в кино. Я бы хотела пунктирно наметить возможность приложения проекта автора к дневниковым киноопытам и описать специфически кинематографические политики себя и их терапевтический и критический эффекты.
Обращение к себе
Обращение к самому себе — это определенное движение к собственной жизни. Поворот к себе, согласно Фуко, является отправной точкой «заботы о себе» — комплекса практик постижения себя и истины. Античный комплекс практик заботы о себе был редуцирован нововременным мышлением до одной-единственной практики «познания себя». Картезианский момент, по мнению Фуко, добавил значимости «познанию себя» и отнял ее у «заботы о себе» [2]. Однако обращаться к себе можно не только с целью познания. Значение обращения к себе заключается не в приобретении установки или знания, а в трансформации себя в своем образе жизни:
«[Обращение к себе/взгляд на себя — это] любопытство, или, по крайней мере, тот единственный вид любопытства, который стоит практиковать с определенной долей упорства. Речь не о том любопытстве, которое направлено на усвоение того, что положено знать, но о том, которое дает возможность отстраниться от самого себя. Чего стоило бы познание со всем присущим ему упорством, если бы оно должно было обеспечить всего лишь количественное усвоение знаний и не предполагало бы освобождение — особого рода и в той мере, в какой это возможно, — от автоматизма сознания для того, кто познает? В жизни бывают такие моменты, когда необходимо ставить вопрос о том, возможно ли мыслить иначе, чем мы мыслим, и видеть иначе, чем мы видим, если только мы хотим продолжать думать и смотреть» [3].
Фуко выделяет три основные функции обращения к себе: функцию (духовной) борьбы, или сражения, критическую и терапевтическую функции. Функция духовной борьбы означает необходимость «сражаться», упорствовать всю жизнь [4]. Критическая функция обращения к себе позволяет поставить под сомнение свое образование и воспитание — «избавиться <…> от всех дурных привычек, которых можно было набраться от толпы, плохих учителей, а также от семьи, среды, родителей» [5]. Терапевтическую функцию Фуко считал самой главной. Выступающий для самого себя очагом патологии субъект в стремлении излечиться использовал комплекс терапевтирующих техник [6]. Все эти функции в разной степени содержатся в техниках дневниковых фильмов.
Чтобы обратиться к себе, нужен инструмент, позволяющий создать рефлексивную структуру субъект-объектной трансформации. Тогда субъективное «Я» становится собственным объектом и обнаруживает в зазоре то самое «себя». Рефлексивная структура в дневниковом кино связана с двойной темпоральностью — второй темпоральный уровень возникает во время монтажа в виде закадрового голоса и/или определенных нарративных стратегий.
Работающая с дневниковой формой кинематографистка Маша Годованная однажды в разговоре со мной назвала кино «техникой спасения от безумия». Таким является один из ее последних дневниковых фильмов Tomorrow I Failed Completely («Завтра я провалила полностью», 2020), в котором сразу несколько важных событий вынужденно случаются в пространстве тесной квартирки: написание диссертации совпало со вспышкой COVID-19 и самоизоляцией. С помощью 16-мм камеры и практики письма Маша отыскивает визуальные и аудиальные средства борьбы с настоящим, сбегая в прошлое, чтобы выхватить из него надежду на будущее. В фильме есть только вид из окна, фиксируемый каждый день всеми возможными средствами: 16-мм камерой, цифровой камерой, карандашом на бумаге. Расползаясь по медиумам, невыносимое однородное настоящее настойчиво разрастается во времени и пространстве. Аналоговая камера переносит дерево за окном в прошлое, цифровая замечает, как вопреки комендантскому часу зеленеет листва. Переход от одного к другому создается ритмичным звуком заряда 16-мм камеры, похожим на тиканье часов.
Время и события становятся объемными благодаря этой кинематографической терапии. Съемка и письмо помогают прорвать покров беспомощности.

Дневниковое кино — это кинематографическая практика собирания себя. Расщепленность субъекта связана с самим фактом пребывания в мире модерна. Маршалл Берман пишет, что парадоксальное свойство современности состоит в том, что воля к преобразованию себя и мира вокруг рождается из страха перед дезориентацией и дезинтеграцией. В этом — «трепет и ужас мира», в котором «все твердое растворяется в воздухе» [7]. Поэтика дневникового фильма вырастает из потребности справляться с тревожным пребыванием в стремительном мире модерна.
Переживание современности приобретает самые трагичные формы среди тех, кто снимает дневниковое кино. Сбежавший от нацистского преследования и войны Йонас Мекас (displaced person), зависимый от инвалидного кресла и костылей Стивен Двоскин (invalid person), страдающая маниакально-депрессивным расстройством Энн Шарлотт Робертсон (depressed person) — это лишь некоторые случаи.
Анализируя фильм «Уолден: дневники, записки, наброски», теоретик кино Дэвид Джеймс обращает внимание на его раздвоенную темпоральность: Мекас, который представляет (represents), обращен против Мекаса, которого представляют, — закадровый голос противостоит визуальному потоку, поскольку эти уровни повествования разделены во времени. Многочисленные отчуждения оседают в диалогическом взаимодействии непримиримых субъективностей Мекаса, каждая из которых представлена в своей системе — речи или образов [8]. Этот формальный прием подчеркивает главный нарратив дневниковых фильмов Мекаса — нарратив утраты.
В фильме «Потери, потери, потери» (1976) закадровый голос Мекаса ностальгирует о прошлом. Визуальный план фильма — это череда обрывочных настоящих. Сам Мекас — первый зритель своих хроник, и его внимательное наблюдение часто сопровождается рефреном «Я там был». Майкл Ренов пишет, что этот фильм постоянно напоминает зрителю о дистанции, пролегающей между запечатленным на пленке событием и голосом [9]. Зазор и дистанция чувствуются и в самом звучании голоса — оторопелой и несовершенной английской речи Мекаса. Согласно Хамиду Нафиси, акцент может быть обличающим приемом в кино. Говорить с акцентом на чужом языке — значит защищать свою идентичность. Сам акцент становится фильмическим рецептом — фильм не должен быть совершенным, сделанным, целостным.

Образы «Потерь…» созданы без цели: «Я записываю это и не знаю зачем», — говорит Мекас. «Я не знаю, куда я иду. Я не верю в разум после того, как я покинул свой дом. Разум западной цивилизации расщепил меня на тысячи кусочков. И поэтому нет конца этому пути. Нет конца».
«Каждый спуск затвора камеры производил одну случайную эпистолярную заметку, одну открытку, которая добавлялась к стопке визуальных заметок и открыток, что впоследствии становились фильмом. Такой способ производства вплетал фрагментарную биографическую жизнь режиссера в его кинематографическое воплощение» [10].
В фильме нет телеологии, он заканчивается, потому что заканчивается. Свои фильмы Мекас называет «маленькими», ничего не навязывающими. Но эти маленькие, непритязательные фильмы — всеобъемлющи, они славят обычные моменты жизни, доводя их до поэтически красноречивой простоты. В темпоральном зазоре появляется пространство рефлексии, пространство исследования собственной работы. Когда субъект переходит в рефлексивный режим, его мысли часто обрываются и уходят в никуда. Мысль обнаруживает себя в ценных поэтических фрагментах и угасает вслед за разумом.
Не что иное, как создание фильма, становится практикой собирания себя из осколков, на которые Мекаса разбила война. Так, в последней части фильма Мекас напоминает об ускользающем времени, пытаясь при этом удержать его соединением множественных настоящих. Делает он это голосом: «закат, закат, закат», «восход, восход, восход», «снег, снег, снег», «детство, детство, детство», «вечера, вечера, вечера», «дом, дом, дом»… Настоящие расползаются в трех временных модусах — прошлом, настоящем, будущем. Время неустанно движет образы, меняет и уничтожает их, и разум с этим движением справиться не может. Но может съемка. Ее Мекас наделяет почти религиозной значимостью и в одном из фрагментов воплощает это в метафоре: под протяжные церковные песнопения он экстатически кружится с камерой в руках, снимая колыхания луговых трав.
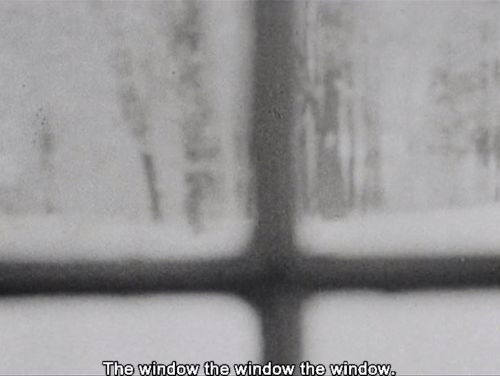
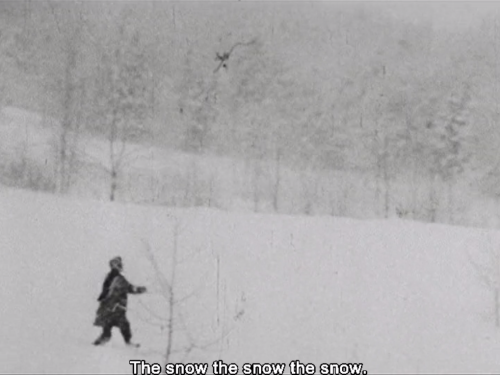
Терапевтической «практикой себя» можно назвать все творчество Энн Шарлотт Робертсон, независимой кинематографистки, которая, по мнению Хайдена Геста, придала понятию «независимости» новый меланхолический смысл [11]. Независимость проявлялась не только в творческих решениях, но и в ее болезненном одиночестве и депрессивном расстройстве, которые задали тон ее работам.
С помощью камеры она находит способы дистанцироваться от себя и своей подавленности. Так, в работе Talking to Myself («Разговаривая с собой», 1985) — этой оде дереализации, буквально обозначающей, что «“Я” — это не “Я”», — Робертсон в одном кадре сводит два изображения себя, пытающейся поговорить с собой (каждая из Энн говорит с отражением Энн, сидящей напротив). Диалог не клеится. Прикрикивая, Энн настаивает: «Я хочу поговорить с тобой! Я пытаюсь тебя услышать!» Но она теряет связь с собой в переэкспонированном экране, и иронично предлагает встретиться для очередного разговора на следующей неделе.
Кроме отдельных коротких кинематографических высказываний в дневниковой манере, Робертсон сняла Five-Year Diary («Пятилетний дневник», 1982), состоящий в общей сложности из 82 частей. Изначально дневник был задуман как средство наблюдения за своим телом и привычками — колеблющимся весом и зависимостями. Почти ритуальной значимостью Робертсон наделяет съемку каждого приготовления и приема пищи, курения и злоупотребления алкоголем. Это слежение за собой вряд ли решает проблему, но позволяет сформулировать иное отношение к ней. Дневниковая практика становится важным терапевтирующим актом, сохраняющим жизнь и ее моменты от тревожащего ускользания, потери. Апогеем терапевтического эффекта дневниковой практики Робертсон становится кадр из ее короткометражного фильма Depression Focus Please («Депрессия. Сосредоточься, пожалуйста», 1985). На фоне содрогающегося движениями камеры пьяном небе — закадровое терзание:
«Как я могу покончить с собой, если все так чертовски красиво!..»
«Депрессия…» — это фильм, состоящий из коротких и проходящих кадров срывов, осечек и неудач. Беспокойный монтаж не позволяет сфокусироваться. В любом месте Энн жалуется на пропажу всякого желания, на ощущение собственной ничтожности, отброшенность. Невозможность что-то сделать она превращает в высказывание об этой невозможности.


Нарратив частей «Пятилетнего дневника» создается наложенным во время монтажа закадровым голосом, однако Робертсон изобретательно оставляет записанную во время съемок речь, лишь слегка приглушая ее. Этот прорывающийся голос продолжает сопротивляться упорядочивающему нарративу. Визуально кадры действительно едва скоординированы. В одном из рулонов [12] «Пятилетнего дневника» Робертсон проговаривает: «Важна каждая деталь, она будет что-то значить позже». В итоге избранная деталь ничего не значит, но Робертсон показывает ее с надеждой, что та обретет значение в фильме. В одном из интервью Энн говорит:
«Когда я начала снимать [«Пятилетний дневник»], я купила пять катушек пленки. Я планировала снимать себя каждый день у себя дома. И еще сесть на строгую диету… Каждый день была бы новая сцена. Но на самом деле рассказывать мне было нечего, я могла разве что подробнее показать свою повседневность» [13].
Камера осуществляет микроконтроль и загоняет действия в рамки, не только кадровые. В то же время само действие становится возможным благодаря зову камеры: несмотря на апатию, съемка все же продолжается. В этом заключается парадокс субъекта — to be subjected значит быть подчиненным. В этом случае субъект становится своим собственным объектом [14], и это особенно интересно в контексте переживаний Энн. Ее меланхолия — это следствие идентификации себя с утраченным объектом. Она перманентно сокрушается о том, что не случилось из-за нее же.
Эти мотивы пронизывают киновысказывание Apologies («Извинения», 1990). Фильм начинается извинениями за то, что фильм называется «Извинения». «Я хочу извиниться перед вами за то, что вам приходится смотреть этот фильм», — говорит Энн. Ее голос врезается в склейки и просит прощения за долгие паузы между кадрами. В постели, в туалете, в магазине или за рулем она злоупотребляет сигаретами и кофе, прося прощения у тех, кто не по своей воле оказался запечатленным в ее домашних фильмах. Она просит прощения у камеры, что та вынуждена наблюдать за ней. Она просит прощения у людей, которые не могут купить камеру, потому что она уже купила ее. Она извиняется за фильмы, которые она не сделала. Эту гонку утраты не остановить: фильм не может закончиться, потому что ей жаль все и всех.
я прошу прощения у своей матери, которая постоянно просит прощения у моего отца за то, что она родилась женщиной и вышла за него замуж
<…>
извините, что я постоянно извиняюсь
<…>
мне жаль, что я больше толстая, чем красивая
<…>
извините, я так устала жить
<…>
извините, что вместо того, чтобы помогать нуждающимся, я покупаю сигареты
<…>
извините, что мои извинения не выглядят искренними
<…>
мне жаль, что я недостаточно успешна, что я неудачница
При этом она невероятно изобретательно обыгрывает неудачи в процессе съемки фильма. Забыв включить микрофон, Энн накладывает на отснятые зарисовки закадровый голос: «Извините, я не помню, за что я хотела извиниться».
Саркастически и зло она использует «Мне жаль» как обвинение по отношению к себе и всем тем, к кому она обращается. Однако в одном эпизоде, полностью обнажив себя, глядя в камеру, она извиняется перед собой. Так она обнаруживает себя в качестве того самого утраченного объекта. Фильм завершается фразой: «Мне не жаль, что я сделала этот фильм».
«Мой мир <…> разбит на такие мелкие кусочки, что я сомневаюсь, что когда-нибудь смогу их собрать» [15],
— сказал однажды британский кинематографист Дерек Джармен. Свою кинематографическую практику он называл «археологией души», а фильмы «мусорными гербариями»:
«…Я роюсь в мусоре, точно археолог, наткнувшийся на погребенный фильм. Я археолог, который проецирует свой личный мир лучом света на экран, пока в конце представления все не померкнет, и мы не разойдемся по домам» [16].
Все померкнет еще до того, как он закончит работу над своим последним фильмом Blue («Синева», 1993).
Фильм напрочь лишен фигуративных образов. На протяжении 84 минут экран залит синим Ива Кляйна. Парализованное изображение сопровождается закадровым голосом — поэтической дневниковой речью Дерека Джармена. С экрана льется пронзительная история борьбы с болезнью, а синева экранного поля почти не метафорична: это собственный взгляд, видение Джармена, теряющего зрение. Когда режиссер начал работу над фильмом, он уже почти ослеп из-за инфекций, поразивших его сетчатку на фоне СПИДа. Мир Джармена погрузился в темнеющую смоль, напоминающую размытый цианотип. Он начал видеть в полусиних тонах [17].
Для этой болезни, для смертей близких друзей просто нет образов. Вместе с тем синева, она же печаль и тоска, оказывается предельной репрезентацией состояния: «печаль (blue) моего сердца», «печаль/синева (blue) в моих мечтах», «медленная печаль (blue) любви».

Джармен очень тонко переплетает метафоры боли, жестокости, любви и нежности. Он злится на войну, эпидемию, тэтчеровскую Британию и неолиберальное равнодушие. Помещая весь спектр своих чувств в печальную пустоту, Джармен поднимает вопрос политики видимости. Видимость между тем двойственна. Она сковывает, оставляя клеймо.
«Видимость — это тюрьма души, твоя наследственность, твое образование, твои пороки, твои стремления, твои качества, твой душевный мир» [18]. «В глубине своей души ты молишься об освобождении от власти видимого» [19],
— густой бархатный голос Джармена затихает. «Синева» — это настойчивый и хрупкий опыт сопротивления. Погрузившись глубоко в себя, Джармен открывает небесный горизонт.
Обращение к другому
В тексте «Говорить правду о самом себе» Мишель Фуко указывает, что еще в римской античности обращение к другому стало довольно популярным механизмом, позволяющим заниматься собой:
«Сенека говорил, что никто не силен настолько, чтобы самостоятельно освободиться от состояния stultitia <глупости>, в котором он пребывает: “Нужно, чтобы кто-нибудь протянул руку и вытащил нас” [20]»
Дневниковые фильмы очень часто бывают фильмами о других и/или для других. «Я» обращается к другим, чтобы разделить с ними опыт и расширить пространство своего пребывания. Британский режиссер Стивен Двоскин в дневниковом фильме Trying to Kiss the Moon («Пытаясь поцеловать луну», 1994) говорит, что съемка других людей для него — это способ выбраться из капкана, в который его поймало собственное тело.
В девятилетнем возрасте Двоскин переболел полиомиелитом, что сделало его навсегда зависимым от костылей и инвалидного кресла. Но эти ограничения и боль Двоскин трансформировал в творческую энергию. Тема боли занимает в его работе особое место, о чем мы можем судить по его работам Intoxicated by My Illness (Parts 1 & 2), («Опьяненный своей болезнью. Часть 1 и 2», 2000, 2001); Behindert («Препятствуя», 1973–1974); Pain Is («Боль — это», 1997). Боль — это чувство, которое позволяет пробиться к себе. «Быть инвалидом, — говорит Двоскин, — это значит очень чутко улавливать процессы своего тела» [21]. Называя его придатком к устройству, он наделяет свою кинематографическую практику идиосинкразическими свойствами. В движениях камеры/Стива всегда чувствуется тяжеловесность и неуклюжесть, стесненность, что повторяет иммобильность его тела; кадры нарочито протяжны. Например, в фильме Grandpère’s Pear («Дедушкина груша», 2003) короткая хроника становится тягучим воспоминанием, которое постоянно немного отстает, чтобы быть пережитым вновь. Камера/Стив смотрит на других беззастенчиво-пристальным взглядом. Сам он говорит о лицах других как о центрах экспрессии, называя их «субъективными зеркалами» [22]: они не показывают то, с чем сталкиваются, но возвращают взгляд.

Фильмы Двоскина существуют в напряжении между собственной историей и историями других. Эстетика его фильмов вырастает из предельно интимных взаимодействий — крупных планов человеческих лиц, шепота, медлительности. Тесными кадрами Двоскин создает специфическое визуальное пространство, в которое помещает одинокие, обездоленные, страждущие, жалкие, умственно или физически «искаженные» фигуры.
Фильм Двоскина Pain Is начинается словами: «Это персональное исследование боли». Однако самого режиссера мы почти не увидим. В стремлении расширить представление о боли он обращается к другим и просит их выговорить свою боль. Эммануэль Левинас писал, что без других субъект прикован к себе и своему существованию, не в состоянии избавиться от себя. Встреча с другим дает возможность освободиться от оков. Сам Двоскин добавляет:
«Экран позволяет пережить чувства остраненно <…> Я рассматриваю свои фильмы как возможность расширения собственного восприятия» [23].
Крупными планами сняты его интимные портреты женщин. Эти кинематографические истории будто бы должны разворачиваться в классической кинематографической оппозиции между мужчиной как носителем взгляда и женщиной как его эксгибиционистским объектом. Лора Малви пишет, что была поражена тем, как откровенно «вуайеристские» фильмы Двоскина разрушили ее концепцию: взгляд камеры как взгляд желания сильно персонализирован интимным участием Стива — равноправного участника эротической драмы, утрачивающим дистанцию, которая обычно определяет вуайеристскую позицию. Женщина управляет пространством, временем и ритмом собственных движений. Она, кажется, сама становится образной подвижностью, в отличие от принудительного застоя камеры обездвиженного болезнью Стива.
Дневниковые фильмы часто существуют в форме переписки или адресованных другим заметок. Связываясь с другим, мы интенсифицируем свой опыт, наш взгляд к себе становится более пристальным.
«В письмах Сенеки или Плиния, в переписке Марка Аврелия с Фронтоном заметна эта бдительность и скрупулезность в отношении к самому себе; часто внимание обращается на мелочи повседневной жизни, на нюансы состояния здоровья или настроения, на мельчайшие физические недомогания, душевные волнения, на прочитанные тексты, запомнившиеся цитаты, на размышления, которые могли прийти в голову по тому или иному поводу» [25],
— пишет Фуко.
Кинематографическая современность инструментализует переписку как технику поиска субъективности [26]. Так, кинематографист Сол Левин снимает кинооткрытки для друзей и членов семьи: Note to Tetsua (2018), Note to Poli (1983), Note to Colleen (1974), Note to Pati (1969), Note to Erik (1966–1968). Часто это мнемонические заметки, напоминания (Note to Pati, Note to Erik), или кинопортреты (Note to Poli). Notes — заметки на полях, сноски и примечания. В них нет сюжета, и все они являются нотными композициями длиной в жизнь. В них нет и самого Левина, и его присутствие в этих фрагментах обнаруживается исключительно за счет его манеры подмечать несущественные моменты и совмещать их в ауратически плотных зарисовках. Маленькие работы Левина реализованы в виде кинематографических посланий, но они не предполагают ответа. При этом существует множество примеров эпистолярных дневниковых фильмов, подразумевающих двустороннее участие режиссеров, например, Video Letter («Видеописьмо», 1982–1983) Сюнтаро Таникавы и Сюдзи Тераямы; Videoletters: Robert Kramer and Stephen Dwoskin («Видеописьма: Роберт Крамер и Стивен Двоскин», 1991); This World («Этот мир», 1996) — переписка Наоми Кавасе и Хирокадзу Корээда; переписка Кавасе с Исаки Лакуэста превратились в фильм In Between Days («Между днями», 2009); Correspondencias («Переписка», 2005–2007) Виктора Эрисе и Аббаса Киаростами; Correspondencia Jonas Mekas — J. L. Guerin («Переписка Йонаса Мекаса и Хосе Луиса Герина», 2009–2011) — лишь некоторые из них. Такого рода взаимодействие стало важным упражнением в среде кинематографистов.

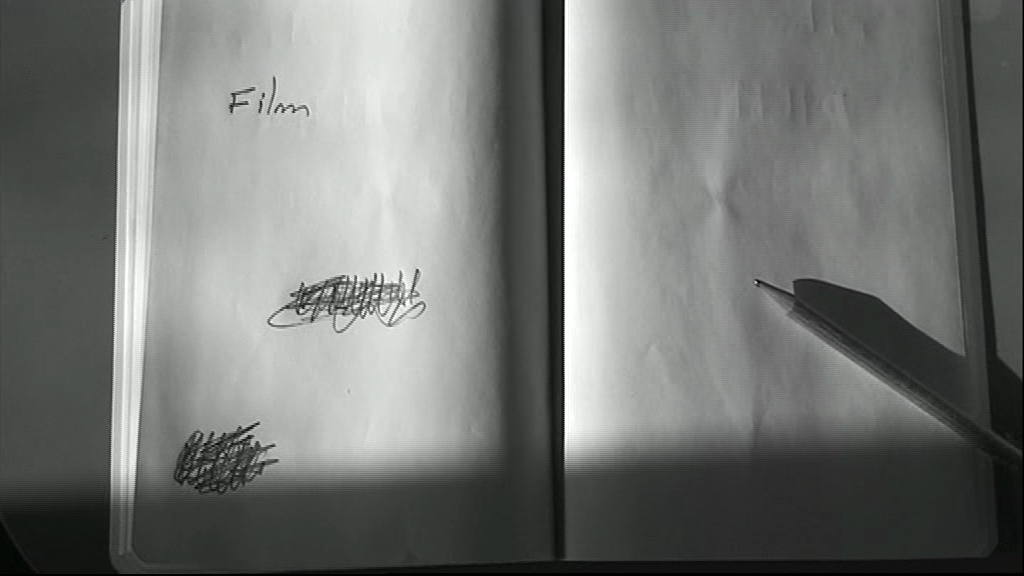
Videoletters: Robert Kramer and Stephen Dwoskin — это малоизвестный сборник неотредактированных посланий, записанных с февраля по июнь 1991 года. Он состоит из семи посланий, четыре из которых записал Крамер, остальные три — Двоскин [27]. В одном из интервью Стивен Двоскин говорит, что отсутствие монтажа было главной договоренностью в этом эпистолярном проекте. В первых письмах оба режиссера следуют этой установке. Именно она позволяет записать настоящий спонтанный поток жестов и мыслей. Съемка реконцептуализируется как автотелесный акт. Она перестает быть инструментом для получения материала и не подчиняется заранее подготовленным сценариям. Она воплощает медитативное внимание к повседневной жизни и себе.
Однако позднее из-за технических проблем с импедансами входов Sony изображения и звук пришлось записывать отдельно [28]. Эта незапланированная неудача сразу же становится приемом, через который Роберт Крамер проблематизирует свое нестабильное эмоциональное состояние. В одном из посланий Роберт решает показать Стиву дом в Руане, в котором из-за разъездов он появляется крайне редко. Режиссер сначала записывает свой рассказ на диктофон, а затем снимает дом. Звук, записанный на парижских проспектах, сопровождает размеренные блуждания по периметру камерного сельского домика, окруженного зеленым садом. Роберт говорит: «Я здесь, но также я там. Разделенность на части и пространства, проекты и культуры, взгляд и слух, изображения и действия…» Разделение на «здесь» и «там» показывает психологическую подавленность Роберта жизнью в изгнании. Раздвоенная география его съемок (еще в одном письме он снимает испанское посольство в Берлине) позволяет ему начать экзистенциальный разговор об изгнании, к которому его подтолкнула Америка — ее культура и политика. Стив тоже в некотором роде изгнанник, но совсем в других обстоятельствах.
Обращаясь друг к другу, Роберт и Стив снимают из окна, имитируя преодоление замкнутости, выход за свои пределы навстречу друг к другу. Кино/видеопереписка — это полное рисков упражнение в интерсубъективности, заостряющее вопросы искренности и уязвимости, поскольку она подразумевает зависимость от другого видения, от ответа другого. Эта практика является перекрестком взглядов, где субъективности сталкиваются, обогащая и поддерживая друг друга альтернативным видением.


Фильм Двоскина Trying to Kiss the Moon начинается с послания Крамера: «У меня был сон несколько дней назад, Стив. Там был какой-то знак. Мне кажется, что-то про тебя или какое-то послание для тебя… не знаю. Утром я понял: там были моменты, кажется, действительно для меня важные или для тебя… Во сне была комната или сад. Я записал его [сон], чтобы быть абсолютно уверенным, что не забуду. Комната словно мерцала, а может, то был сад. И был конец света. Ты сказал, что ничего не можешь сделать. И в комнате, либо в мерцающем саду, наступал конец света. Ты сказал, что из-за доктора или медсестры ничего не можешь сделать, чтобы взглянуть иначе. Но было непонятно, где мы: здесь или во сне. Мерцающий голубой свет от телеэкрана в спальне, отраженный от стеклянной двери, полицейские огни — все смешалось. Но это и был конец света».
[3] Там же. С. 14.
[4] Там же. С. 100.
[5] Там же. С. 99.
[6] Там же. С. 101.
[7] Маршалл Берман. Все твердое растворяется в воздухе. Опыт модерности. М., 2020. С. 13–15. Фраза «Все твердое растворяется в воздухе» принадлежит Карлу Марксу.
[8] David E. James. To Free the Cinema: Jonas Mekas & the New York Underground. Princeton, 1992. Pp. 162–165.
[9] Michael Renov. The Subject of Documentary. Minneapolis, 2004. P. 223.
[10] Hamid Naficy. An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking. Princeton, 2001. P. 43.
[11] Anne Charlotte Robertson collection. URL: https://harvardfilmarchive.org/collections/anne-charlotte-robertson-collection.
[12] Reel — бобина, рулон пленки (англ.). Именно так многие дневниковые кинематографисты, включая Робертсон, предпочитали называть части своих дневниковых фильмов.
[13] Scott Macdonald. A Critical Cinema: Interviews With Independent Filmmakers. California, 1988. P. 208.
[14] Зигмунд Фрейд в тексте «Скорбь и меланхолия» пишет, что меланхолический субъект идентифицируется с утраченным объектом, желая его удержать. URL: https://freudproject.ru/?p=796.
[15] Patti Gaal-Holmes. A History of 1970s Experimental Film: Britain’s Decade of Diversity. Basingstoke, 2015. P. 126.
[16] Patti Gaal-Holmes. A History of 1970s Experimental Film: Britain’s Decade of Diversity. P. 126.
[17] Ребекка Джейн Артур. О, Синева, приди // Самиздат о кино «К!». 2021. № 2. С. 26–33. URL: https://syg.ma/@lena-holub/o-sinieva-pridi
[18] Цитата из фильма Blue.
[19] Цитата из фильма Blue.
[20] Мишель Фуко. Говорить правду о самом себе. М., 2021. С. 68–69.
[21] Из интервью Двоскина в телевизионной программе «От киноавангарда к видеоарту». «Боль. Стивен Двоскин. Выпуск № 39». Дата эфира: 4 февраля 2002 года.
[22] Цитата из фильма Trying to Kiss the Moon.
[23] Цитата из фильма Trying to Kiss the Moon.
[24] Малви пишет о фильме Двоскина Trixi («Трикси», 1969): Laura Mulvey. Sight & Sound. September 2012 issue. URL: https://www2.bfi.org.uk/news-opinion/sight-sound-magazine/comment/obituaries/stephen-dwoskin.
[25] Мишель Фуко. Говорить правду о самом себе. С. 59.
[26] Lourdes Monterrubio Ibáñez. Friends in Сinema. Correspondencias Fílmicas: de la Subjetividad a la Intersubjetividad // Área Abierta #19(3). Madrid, 2019. P. 440.
[27] В доступной мне версии фильма содержались только послания Крамера, ответы Двоскина я смогла частично реконструировать по фильму Trying to Kiss the Moon.
[28] Interview with Stephen Dwoskin by Keja Ho Kramer. URL: http://www.rouge.com.au/9/eyes.html.
