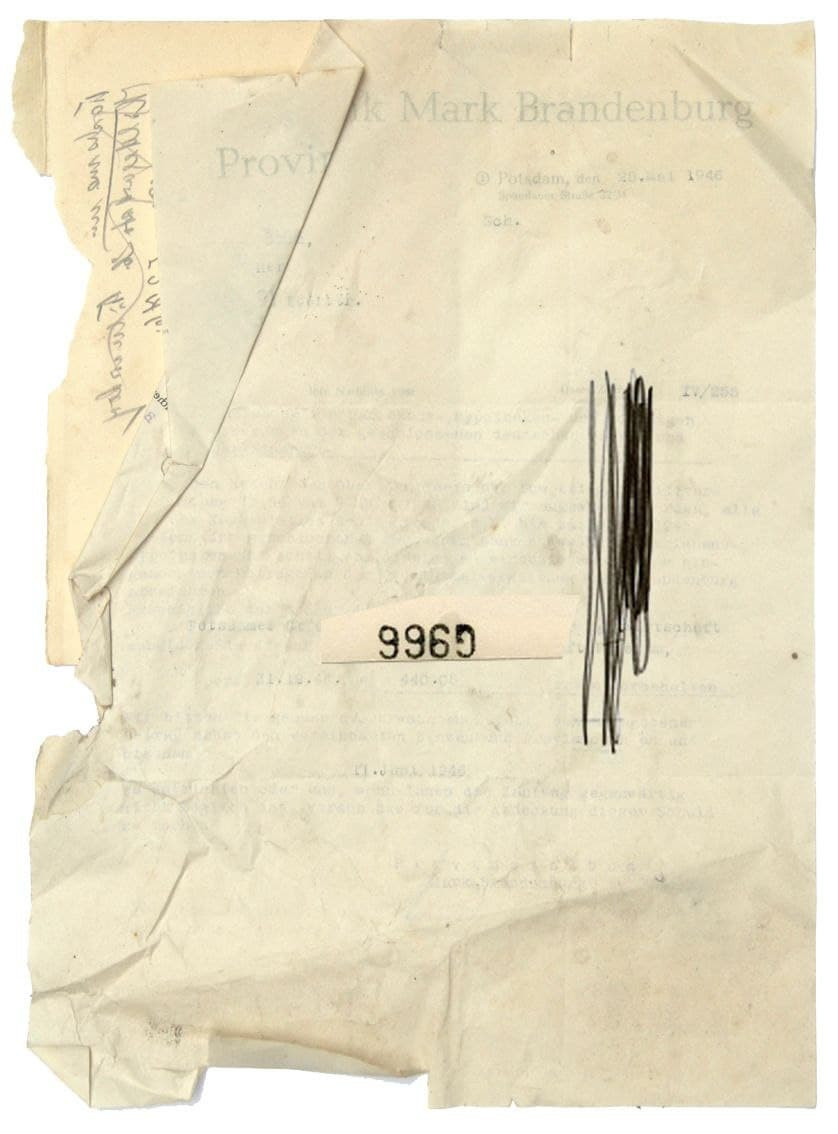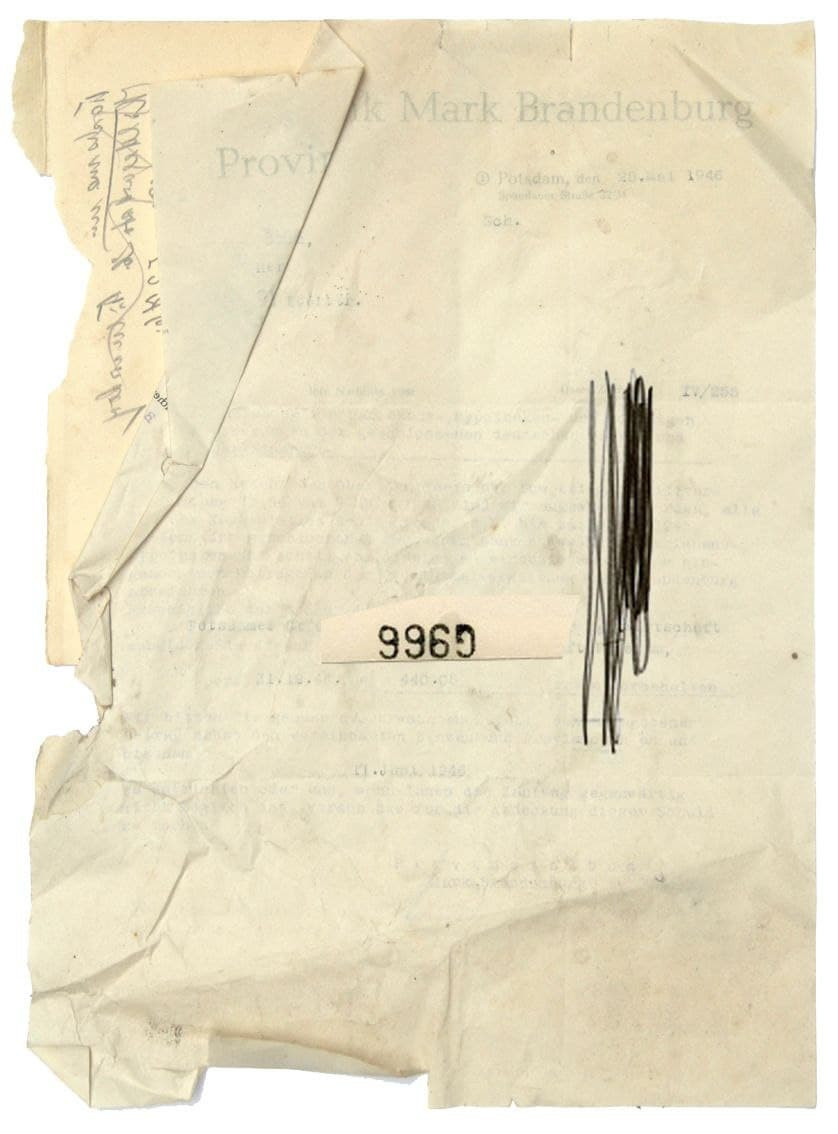Говорить о словах словами — престранное занятие, и всё-таки — хотя погодите, чего же престранного — вы уж извините, что я на этом останавливаюсь, но тут уж дело особого сорта, тут уж нужно (да что это за уж такой, надоел, вьётся и вьётся между строк) — тут уж нужно все тайны наружу, то есть сразу условиться, как говорит пословица, семь раз и один: р-р-раз! — совсем даже и не странно, словом, не ловить же слова в скобки формул, не иксом же их искать (и каково было разочарование, говорил он, щурясь и мыча сквозь зубы, когда многоэтажный особняк дроби, достопримечательно возносившийся над всеми прочими строениями округи и занимавший всю ширину страницы по незабвенному адресу упр. 12, б), вдруг сокращал штат прислуги, выгонял с бала гостей, скрывавшихся за лукавством карнавальных масок (a, b, c…), а потом, отжив свой золотой век, и вовсе без остатка делился на девятнадцать наследственных долей), — так что беру свои слова обратно, да, хочу вернуть, ну, другими словами, хочу оформить возврат, что вы говорите, где чек, как же, как же, мне его и не выдавали, девушка, это вы меня послушайте, я — подождите, чувство будто — неужели не затушил ультиматульский самовар, тёщин подарок, — я был у вас только что, и вы мне дословно сказали, что — что бы я мог такого забыть — стучит себя по карманам, — дословно: вы, то есть я, можете, то есть могу, вернуть товар в течение — большой клетчатый носовой платок, сломанная, смятая папироса, орех и французский франк, — да перестаньте называть меня мужчиной, но мужчина, вы сами не назвали себя, что, что вы сейчас — назвать себя — господи, господин автор, вы же никак меня не назвали, а страница уж начата, и уж, цыц, разорался, будто только что рождённый, сейчас возьму новый лист и, ай, ай, зачем ты кусаешь мою руку, ну-ка, что, что ты говоришь, я не понимаю, перестань меня кусать и скажи словами — апартом: видно, без слов тут никак — чёрт, как сложно писать чертыхаясь, отстань, мне же приходится писать левой рукслщытлытыыытирыы, ладно, я не буду, не буду начинать заново, обещаю, только отпусти меня, ой, я больше не бобу-у-у, кричу я тонким, плачущим голосом — а вы, отчего вы смеётесь, над собою смеётесь — и откуда только у тебя зубы, а, вспомнил, а название вы не вспомните, тут уж (опять чёртов уж, глядишь, и он укусит — но ведь ужи не — а ты почём знаешь, он же литературный, пьёт зеркальное молоко) не упомнишь, помнится, я не успел выбрать, но варианты были: «Амальгаму скребя», «Дай слово словам!» и «Но сад молчал, сад был немой» — ну, первое вы наскребли по сусекам Бродского, второе есть Ти Эс Маяковский, поэма «Пепельный субботник» (“April is the cruellest month, giving // birth to Theses by Vladimir // Lenin”), а третье, а третье, сын мой, из потерянного стихотворения забытого всеми гения (имена, признаться, я придумываю плохо, но вы уж сообразите сообразно образу), ну нет же, нет, как вы могли подумать, не мой этот сад немой, ах оставьте, я обиделся, что это такое, что это такое, это ошибка, переврали, опять журналисты делают из мухи слова, слова, слова, хотя «Гамлета» часто понимают превратно, рассматривают в кривых зеркалах переводов, в кривых зеркалах своих взглядов (впрочем, это глупость — зеркала взглядов — нужно потом поправить), говорят даже, что в своём наставлении актёрам: переусердие противно сути спектакля, цель которого — раньше и сейчас, была и есть — держать что-то навроде зеркала перед природой, — что там, между, видите ли, строк, Шекспир нарёк искусство подражанием, а что же дальше по тексту, по твоему или по моему, по шекспировскому, а, а дальше: цель, значит, драматической игры — показывать добродетели её черты, пороку его сущность — и так далее, действительно, действительно ведь про подражание, говорят они, искусство копирует действительность этсетера, и вот я тебя спрашиваю: ты кого копируешь, а, ты кому подражаешь, вот я, хорошо, подробно знавший свои коленки и белые следы ногтей на загорелой коже, я, так любивший сладко-чернильный вкус тех лакричных палочек, я, игравший с усатым жуком и потом долго давивший его камнем, стараясь повторить первоначальный сдобный хруст, я, двигавший верхней губой, отчего платиновая проволока на передних зубах свободно ездила вверх и вниз, я, так рано узнавший, что за валкая вещь — чуть не проговорился, нужно бы осторожнее, — я, чья мысль (моя, моя мысль!) снова и снова возвращается к области моего детства — что с ним, собственно говоря, сталось, куда оно делось, куда уплыла веранда, куда уползли, шелестя в кустах, знакомые тропинки, — скажи, кого я копирую, какому подбоченившемуся, набокому божку я сбоку припёка, не знаешь, не припоминаешь, а, ладно, это я так, просто-напросто забавный своей ладностью приём, рокировка да и только, а вот с их стороны это настоящая подмена, бутафория: ибо подражание — это отражение, а о том, как, из чего сделано зеркало, Гамлет не обмолвился ни словом, он стекло не разбивал, амальгаму не скрёб, ведь глуп же Нарцисс, который, уверившись, что в реке у мельницы живёт его обрезанный двойник, ревниво колотит по воде, не желая делиться своей красотой — потому что зеркальность есть свойство, а не суть, пусть Алисе и хотелось до безумия увидеть тёмный кусочек комнаты как раз за камином, узнать, топят ли зимами зеркальные люди, к слову, все мы порой заигрываем с зеркалами — когда бы грек увидел наши игры — о, ты прав как никогда, поверь мне на слово, Платон ввёл бы плату за игры слов (хотя сам, хитрец, тоже пользовался ими), я-то знаю, о чём говорю, меня однажды хотели упечь в тюрьму за словесные махинации, за нелегальный, знаешь ли, словесный оборот, причастковый в суде даже намекнул, что я деепричастен к фальшивословию, — что-то у них, видишь ли, не сходилось с книгами учёта Розендаля, — и ведь взялся же откуда-то этот словесный донос с требованием условно-бессловного наказания, — но я, знаешь, увернулся, испёк им диагноз: нехитрый рецепт, часть того, две части другого — и появилась ужасная болезнь часотка, единственный, между прочим, случай за всё время, всё время, знаешь ли, так и тянет проверить время, не убежало ли, не пропало ли, а коли часов нет, тогда — уж тогда пиши пропало, пиши убежало — время встало и побежало! — тогда начинаешь кашлять — и будто сердце чешется, начинаешь чесаться — и кашляешь, как отодвигаемый стул — или как соседский замок среди ночи, замок или замок, а то тут ударение не стоит, ну конечно замок, как же по-твоему замок будет кашлять, и вообще: ударение не может стоять, как ты это себе представляешь, ударение падает на головы букв, как, знаешь, кирпич на Шерлока Хольмса, низвергается, как кара небес — из небес указует, как перст божий, а тире — оно нитями судьбы связывает безнадёжно рассыпающиеся предложения, а иногда заменяет, отменяет слова, вытесняет так и не будущее быть (кривая улыбочка криво скроенного английского) высказанным — знаешь, будто потерянный шанс, будто улица, случайная встреча, первый взгляд, любовь, взаимная и без заминки, и вот вы бежите навстречу друг другу — но что-то мешает, что-то крепко, удушающе держит вас — вы пробуете снова, пытаетесь вырваться, подпрыгиваете, замираете в воздухе — но кожаные поводки, эти нити судьбы, сдавливают ваши пятнистые шеи, и, под упрёки «фу, Ричи, фу» и «фи, Фифи, фи, это же хам, это же не человек, а бог знает что, и у него, наверное, советский паспорт, большевик, просто большевик, а морда какая, морда-то, фи», вас разводят — брр, сделал губами собеседник, прямо удивительно — да, да, и такое бывает, а затем тебя ведут в какую-то башню, и помещают в какую-то камеру, и заставляют молчать, а коллега Павлов — в одном школьном учебнике есть специальная глава о Павлове, ты, разумеется, помнишь эту книгу, как, не помнишь, ну, значит, этим учебником пользовались только в нашей школе для дураков — коллега Павлов, спрятавшись за стенкой, звенит себе в звоночек, то есть тебе, конечно, и ты обязательно, обязательно должен набрать в рот как можно больше слюней, чуть не захлебнуться ими, а то мяса не получишь — так у нас поговаривали — и вот когда я вспоминаю об этом, мне кажется, что слова суть тоже звонки миллиона звуков, что звонкие голоса прочитываемых слов божественно, физиологически взывают в нас к тому самому, нужному, смыслу, будто сами нам этот смысл говорят, вызванивают, нашёптывают (как шептал своим ученикам коллега Павлов после опыта: но кто бы мог подумать, что в собаке столько слюны), хотя ведь, казалось бы, между словом и смыслом его, как и между звонком и мясом, нет никакой связи — но какой-то коллега навроде Павлова (то ль Лев Толстой, то ль Карабас седой) забрасывает свой поплавок, свой попавлок в заводь нашего сознания, и что-то внутри нас клюёт, и круги по воде, и такой чудесный сад, и растения вытягивают губы, складывают в трубочки свои языки, посылают воздушные поцелуи, аплодируют, кланяются, обмахиваются веерами — волосатые одуванчики, задрав головы, загорают — их онкологически больные собратья отчаянно торчат — озираются и моргают жёлтые, с повышенной тревожностью, цветы — все они сплетничают, перешёптываются, а белое вино неба до облачной пенки плещется в бокалах деревьев, и так хорошо, и погода шепчет: походи, походи по саду — погодите, погодите с погодой, предложение хотя бы допишите, дойдите до точки — и то верно, главное не до ручки, ой, до сих пор болит, но оставим таинственного настройщика, коснувшегося ушей, вложившего жало, и вернёмся к Адаму, зачем ему называть тварей земных и птиц небесных: показать добродетели её черты, а пороку его сущность — так они думают, но бросьте, вот назову я тебя, забыл, я слово позабыл, что я хотел сказать, ой, вот, клюнуло: хоть нелёгкая эта работа из лужи болотной тащить — да, назову бегемотом, и что же, да нет, ничего, остался таким, как был, почему же вы остановились, мне хочется, чтобы ты уловил всю важность происходящего, продолжайте, я уже уловил вас за слово, ах, что ты делаешь с русским языком, ты хотел сказать, что поймал меня на слове, хотя тут это совсем не к слову, к делу: зачем же Адаму называть то, что у него есть, что у него всегда будет, как можно назвать рай раем, не зная, не зная Раю, опять твои тяжёленькие шуточки с кривой улыбкой, оставим, он оставил рай, понимаешь, он его потерял (не изгнали ли его потому, что он был не настолько свят, чтобы стать словом «святость»), слово необходимо только при утрате, во всех остальных случаях оно может быть легко пожертвовано гамбиту, заменено щелчком рокировки, и получается, что, называя рай, Адам уже знал, что будет изгнан, он готовился, как готовимся мы, называя вещи, перечисляя их, пересчитывая, чтобы после нашей смерти нотариус сверился со списком: дачная осень, моросящая на астры; еловые стволы, обтянутые там и сям ярко-рыжим лучом; глухой ватный воздух; ласточки, полётом напоминающие движение ножниц; долго и обиженно звенящий буфет, — всё, что от милых тёмных, ясных минувших дней я сохранил (да, ты, конечно, очень любишь цитатою пощеголять) — плюс бутылку ликёра Леонид Петрович принёс, и куда всё это делось, маслины, не знаю, послушайте, Антоша, Сашенька — ошибка, ошибка, да, у меня память плоха — может быть наша память лесбиянка — э, что — о господи, простите, ха-ха-ха-ха-ха, Сашенька, ой, чёрт, что я сказал, это всё газеты и журналы, ха-ха-ха: я хотел сказать клептоманка, это всё на нервной почве, с этими её неудачами в личной жизни — куда делось всё, что спешно нахватала клептоманка-память — нахватала, чтобы ничего не затерялось, не закатилось под шкаф, не рассыпалось бабочкой в горсти, где слово — мысль о вещи, мы — вещь сама, заблудился я в мысли, что делать, давай так: оглянись — нет словам конца и края, как у бога Русь родная, перестань шутить, так ты ни словечка не поймёшь, итак, если уж ставить вопрос бедром, тогда уж лучше в ведро со льдом, так, всё, внимательней, внимательней, посмотри влево, вправо, остановись на середине строки — рощи, кущи, джунгли слов — мир теней, ибо слово есть общий контур, как бы это, ну, представим, к примеру, деревья — все в мире деревья — множеством точек, тогда, если провести через них прямые значения, все они сойдутся в точке слова «дерево»: так соборы кристаллов сверхжизненных добросовестный свет-паучок, распуская на рёбра, их сызнова собирает в единый пучок, извините, тут Петрищев умоляет вас объяснить ему, почему мы знаем, что прямые сходятся, ах Петрищев, не волнуйся, не ходи по комнате, стоп-машина, сейчас я всё объясню, мы знаем это потому, что слово — это идея, это мысль о предмете: прочитав слово «стул», мы представляем себе не венский, не плетёный, не кашляющий и не детский (у меня была сестра, но не очень долго), а некий усреднённый стул, идеальный стул — тут Мнемозина подсказывает мне словечко «эйдос», — а фраза «венский стул» заставляет нас подумать об эйдосе венского стула и так далее, и так далее, айнс-цвай-драй, айнс-цвай-драй, видите, слова много крепче связаны с идеями, а не с предметами, и ничего тут нет престранного постольку, поскольку только первоклассник думает, что решает задачку про прилежных пионеров, про школьную робость яблонь, про алую грамотность вишен, про двух путников, исходящих от А и от Б — он не связал ещё арабские зюгогулины цифр с изящными проявлениями математической мысли, с причудливым поведением чисел, с беззаконной игрой геометрических линий, с тем нагловатым миром по ту сторону его первоклассного мозга, где цветущий брег, где Сахара сахарницы, где кувырки каламбуров, где гуляют хливкие шорьки, вот, кстати, если вы всё ещё сомневаетесь, покажите мне шорьков, это я сейчас к вам обращаюсь, иди сюда, да, вы, вы, идите сюда, ты, иди сюда, ну да, сюда, шёпотом: иди сюда, иди сюда, нетерпеливо: ну иди сюда, ты, иди сюда, я тебе говорю, ну вы, ты, да, да, ну, иди сюда, сюда, вы, вы, вы, давай, давай, иди, иди, иди, сюда, иди, томно: ой, бойко: давай, давай, давай, сюда, садись, да садись, сюда, есть хочешь, хочешь есть, то есть тьфу (будто сплёвывает чужой голос) — вы, читатель, покажите мне шорьков, потому что мы-то с Александром Иванычем их видим, вон они, щиплют травку, резвятся у речки и болтают на вам непонятном наречье, мы их видим, ведь тут — цветущий брег за мглою чёрной (поэтому на всех словах, как чёрный лёд, горит стигийского воспоминанье звона), а вы — я вас даже не вижу, так, предполагаю, так что иди своей дорогой, дорогой читатель, не переплывай речушку, не нужно, ибо переход из одного мира в другой, в каком бы направлении ни совершался, подобен смерти, поэтому, к слову, у нас тут постоянная популяция, раз не хватает слова — не выдумать его: оно само гудит, качает колокол беспамятства ночного, вот почему мы слова подбираем, вернее — вспоминаем, ведь идея и есть слово, и не «может быть, поэзия сама — одна великолепная цитата», а точно, и не только поэзия, а литература, мало того — язык есть цитата, твой язык есть то, что ты умыкнул на эзоповом базаре, подобрал у тропинки — подбирать слова, не проронив ни слова — что, кстати, очень удобно: пропадает понятие кражи, я вот каждый день что-нибудь краду — что — это кто сказал — что сказал — кто сказал что — кто что сказал — да что, что кто сказал — вы про что — да что ты кто да что, это ж ты, гнида — эй, вы что — да не он это — стоп, а это кто — да я это, я, продавщица — как, вы всё ещё с нами — а куда ж мне — действительно, ладно, стойте — а что вы там про кражи сказали — а кто что сказал, разве что-то кто-то говорил — ну-ка отдайте слово, оно наше — как же ваше — нет, не ваше, а наше — ну вот видите, вы сами сказали, что слово наше, так что ничего не знаю, чека нет, да и вас нет: пуф — а куда она исчезла — да так, не важно, давайте продолжим: сетка слов — наша система координат: улица, деревья, дети, — да и дети не срисовывают деревья, а начирикивают какой-то головной образ, едва ли связанный с роговой мантией коры, раной дупла — но это снова слова (а как же мы с вами тут тогда оказались, в словах этих, ты хочешь знать, очень хочу, ну хорошо, ты точно готов, да-да, ты уверен, что совершенно определённо готов услышать, да-да-да, говорите же, не тяните, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, а точнее сказать я не вправе), и, хотя читатель и верит всему, чего не скажут ему, подбирая слова самостоятельно, складывая их, сталкивая, он непременно начинает чувствовать их инаковость: слова, которые играют в слова, слова, раскрывающие свою условность, как, знаешь, в одной фильме, когда он красит ей губы — и целует их, красит — и целует, красит — и целует, слова вообще большие шулера, олухи и лопухи, надавать бы им оплеух — вот, например, все знают, что Набоков был относительно верен Вере, но слова-ловкачи, ты посмотри, что натворили: и вот сижу в своей квартире и рюмюсь, мыслию томим — в Давосе бабочки сгубили, ночные бабочки сгубили Набокова — я пью один, как это вы пьёте один, вот он я, к тому же я не дам вам пить, а то вы хлюп-хлюп — а писать потом кто будет, ты прав, но, кхе-кхе, что это ты тут устроил, да пока вы так складно говорите, мерно диктуете простым умам, гуляя взад и вперёд по классной, я решил выкурить маленькую гоголевскую сигарку, это как, это нельзя, отдай, разве кто курит в классных, да и я тебя должен целёхоньким вернуть, а то не получу выкуп, неужто вы теперь, как и я, суженый, нет, мы скорее ряженые, забудь, вот тебе лучше конфекты, я знаю, ты любишь сладости, держи коробку и читай, что написано, «кор-ку-нофф», большое спасибо, надеюсь, нам заплатят за рекламу капиталистических жульничеств, которых, как я уже сказал, в мире слов не бывает, тут все у всех воруют, как говорится, слово на ветер — а собака лает, ну вот меня, мм, меня бы никто не смог, мм, украсть, я вон какой тучный, это ты, Сашенька, ха-ха, сильно ошибаешься, конечно, пришлось втаскивать безжизненное, тяжёлое тело в автомобиль с ша — шашечками на дверце, но границу пересечь довольно просто, раз — и ты уже в дамках, а яйцо, утка, заяц, верблюд, игольное ушко, стог сена — этого ничего нет, да и ты далеко не мужик, не Му́жин, а так, мокрое место, лужица, ой, ты посмотри-ка, как странно ты полакомился конфектами, половину съел, а остальные разложил так, что коробка теперь вылитая шахматная — и тут я спохватился, забормотал: я хотел сказать «Ахматова доска», то есть: «ах мать моя тоска», но собеседник мой покраснел, вздулся, вырос — и лопнул, да так, что я оказался посреди огромной лужи, а сзади, прошуршав средь ящериц и змей, меня стали нагонять ужи, шипевшие: «вот и наш уж-ж-жин», я быстрее поплыл к берегу, река становилась всё уже и уже, и вот уж я как ужаленный вбегаю в какую-то дверь, быстрее захлопываю её, озираюсь в поиске стульев для баррикады, но вижу только клетчатый носовой платок, сломанную папиросу, табличку «нижулайа квартира» на внутренней стороне двери, самовар, орех и французский франк, бликом — олакрез, а в нём читаю табличку («а йа …»), хватаюсь за голову, где-то — срываются — с цепей — собаки, внезапно камушек, очень ловко пущенный, попадает мне в левую лопатку, я ахаю и оборачиваюсь: никого, — я тебя убью, Иуда, говорит он почему-то по-немецки, и я иду быстрее по телескопу комнат, стараясь вилять, как это делают (я читал где-то) люди, боящиеся выстрела в спину, быстро открываю первую попавшуюся дверь, наваливаюсь всем телом, щёлкает задвижка, кашляет ключ в замке, а камни снова обрушиваются многоточием, и упало каменное слово на мою ещё живую грудь, я охаю, я повторяю вслух: ну сынко, я тебя породил, я тя, тяжело дышу, я слабею — туда, туда, к концу абзаца — подо мной ревёт водопад, и, хотя я не обладаю пылким воображением, но, клянусь вам, мне чудится, что из бездны до меня доносится голос поскользнувшегося профессора Набокова, мне душно, я скидываю пиджак и замечаю, что руки у меня в крови, перед рубашки в красных пятнах, наконец я на комоде, комод трещит под моей тяжестью, огромный обломок скалы с грохотом пролетает около меня, я понимаю, что Набоков действовал не один, остался его сообщник, я втаскиваю стул на комод, а затем, с трудом балансируя, долезаю до нижнего края чёрной ночи, дыша так громко, ударяя по клавишам так часто, что оглушаю самого себя, после многих усилий я оказываюсь в странном и мучительном положении, одна нога висит снаружи, квадраты окон, арок полукружья, полковник Моран в пустом доме напротив целится в свою изумительную мишень, в меня, палец его нажимает на собачку, раздаётся странное жужжание, затем серебристый треск разбитого стекла, миллион, миллион, миллион алых роз, из окна, из окна, из окна выпал я, глубоко, глубоко, глубоко внизу что-то нежно зазвенело и рассыпалось, и — кляксой, лужицей, пулевым ранением — расползается точка.