Места заботы и травматизма: между Терраполисом и Шизополисом
Короткая заметка о внутренних практиках себя и тех состояниях, которые возникают в центре имперского Шизополиса, где звучит музыка кислотного ретро, а время оказывается под запретом. Речь идёт об ответных попытках построить Терраполис (Харауэй), найти новую землю политической агентности и выйти из регионов воровской некрополитики, участники которой с интересом наблюдают за технологиями доставки смерти, расщепляя саму адекватность и возможность нового.
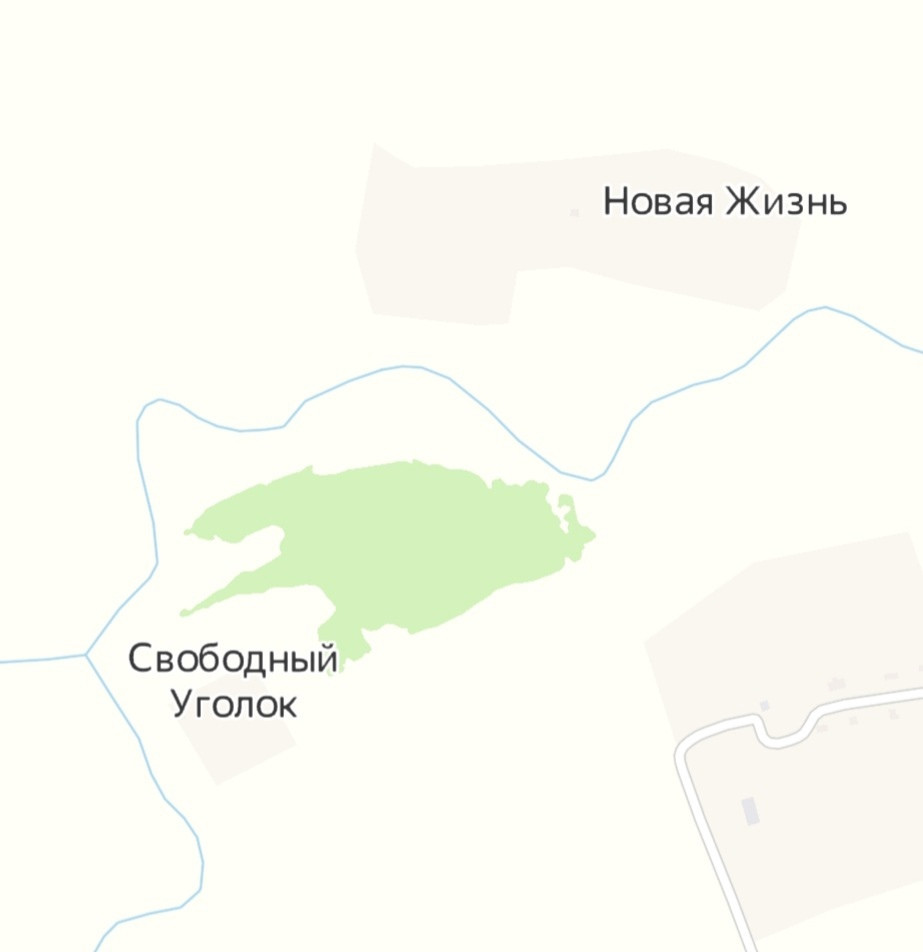
Если у Харауэй Терраполис — место запутанных политик заботы и становления с компаньонами и сородичами, и
Это не «шизо» и «расщепление», которые представляют собой витализм вместо выпадения из реальности или максимальную скорость производства и скольжения, а «шизо» множества дизъюнктивных синтезов, говорящих тебе «или то, или это», где каждое «или» ровняется репрессивности. Кажется, два или даже три проекта Делёза складываются и схлопывются: что его этика событий из «Логика смысла» — те события, которым надо соответствовать (а соответствовать вообще не получается, не получается дорастать, получается только кричать, двигаться до моментов реального действия или биться головой об стену), что его шизофреническое производство, которое стало не путём раскодировки потоков, а методом производства универсальной информации, которая расщепляется и ускользает на ходу, как только ты её услышишь. В неё входят постулаты: или фейк (постановка), или провокация; или нападение, или нападение, и так далее. К этому грустному хлопку присоединяется космическая революция молекулярного, где даже лицо — это политика, а вещи и концепты переходят дорогу самим себе, меняя общее пространство говорения, срезов и публичности. Не то чтобы это когда-то казалось реальным, но это казалось хотя бы весёлым и сподвигающим на бодрый философский танец среди повседневных идеологем и институционального затухания, когда ты мог представить, что пресловутая метафизика присутствия — воздух, улица, раннее утро с разговорами и прочие красоты — уже не просто элементы присутствия, а население сингулярного города твоих локальностей, где составленная картография способна быстро меняться, раскручивать изнутри — большой язык, тела, методы, — устраивая зоны несовпадения и коллективности. Но вот, кажется, даже куски этого воздуха — всего лишь место инерции, квазипричинность государственных проникновений, колонизирующих дыхание, моторику и сновидения.
Если бы Терраполис как пространство Земли (или земель), интра-активных запутанностей и ситуативных эпистемологий всё-таки состоялся, мы бы вышли к уличной онтологии с новой музыкой, повторяя слова о том, что интенсивность — основа всякой интерпретации. Автотравматизм Шизополиса заключается, в том числе, в его анти-желаниях, в эдиповых выплесках и фашистских отложениях (как формулировал это Поль Пресьядо), прячущих за мнимым и смешным динамизмом, памятью и бросками очевидную фактологию смерти и воровскую некрополитику. В этом смысле всякие проекты типа спекулятивного аннигиляционизма, пытающиеся помыслить вымирание, не выдерживают никакой критики, так как в постантропоцентрическом пафосе совершают своеобразный финт на месте, забивая гол в свои ворота и оставляя социальное и политическое один на один с пустым местом без пассажира под именами окончания, тёмной материи и разложения. В конечном итоге аполитичные метафизические тупики ничем не отличаются от регионов символической плесени, чьи теоретические движения, например, рисуя Землю как тело без органов, оказываются очередным триколором или превращаются в замкнутую аргументацию о неоднозначности и неочевидности чего-либо.
Жители Шизополиса — любители территории татуировок, ленточек и разметок, активно наблюдающие за технологиями доставки смерти и на полном серьёзе устанавливающие запреты уже мёртвым людям. Место смерти против мест жизни, расщепление всевозможных состыковок адекватности, рост в глубину тяжести — частички вневременной Конституции имперских практик, замедления и
Лавкрафтовское «ретро-погребение» нового — это то, что помещает его странные истории «вне» времени — опять же, например, как в рассказе «Тень из безвременья», в котором главный герой Пизли сталкивается с текстами, написанными когда-то его собственной рукой среди древних архитектурных реликвий.
То, что написано нашей рукой никогда не существовало, потому что сразу было помещено «вне» [разрешённого] времени. Это, видимо, пятый тип времени, которое можно добавить к известной классификации: не только время, которое теряют, но и время, которое разрешают или не разрешают. А ещё звуки и песни этого времени, звуки и песни внутри Шизополиса. Помню, раньше, когда были силы на это, по пути куда-то получалось слушать лекции по философии или литературе. Когда была нужна странного рода мотивация, поддерживаемая агональными зверюшками когнитивного капитализма, в наушниках мог звучать рэп и
И вот теперь ты слушаешь эти песни какой-то там волны, одновременно известные и неизвестные, вспоминаешь слова и находишь дополнительные метафоры для повторения: двадцать лет твоей жизни проходят под властью одного человека и из колонок государственности доносится одно и то же кислотное ретро, звучащее с каждым годом всё громче и громче.
Как выбрать ту землю — дрейфующий остров, со стороны которого будет возможна обновлённая форма противостояния и решения, перформативности и высказывания? Иногда я вспоминаю слова Гаше по поводу «Что такое философия?» Делёза и Гваттари, где он говорит о философской земле, которая сейчас напоминает о виртуальном (хотя бы) Терраполисе, где есть свои нелетучие и приземленные институты, компостирование и немного виталистские истории:
…это объясняется странствующей, номадической природой острова. Лишь когда Посейдон пригвоздил плавучий остров в самом центре четырёх сторон света, только тогда Ортигия, или же Аделос (невидный), стал Делосом ([оче]видным, известным). Памятуя об обращении Бланшо к словам Ван Гога о его «привязанности к земле», можно тогда сказать, что Аполлон — бог, с землёй никоим образом не связанный. Вместе с тем в благодарность за своё рождение бог «провозгласил остров центром греческого мира и нарёк его Делосом сияющим». Но лишь после годичного пребывания в далёкой стране — «на брегах океана, за северным ветром», куда новорождённого доставили лебеди, впряжённые в колесницу (подарок Зевса), Аполлон возвращается в Грецию, прямиком в Дельфы, где дельфийцы устроили во славу бога прекрасный храм с Пупом 3емли в святилище. Отметим тут важный момент: «не совсем олимпийский бог», но вместе с тем и совершенно греческий, раr excellence, Аполлон большую часть своей жизни провёл на земле и среди смертных. Парадоксально, но похоже, само рождение на дрейфующем острове, исконная оторванность от какой бы то ни было земли и позволили ему пребывать на ней.
Хотелось бы это всё описать более коротко, возможно, в поэтической речи, но любой способ аффектации в итоге замыкается на ужасе, ненависти, тревоге и тех состояниях, которые сложно заключить в одно слово или набор. Здоровье заметок заканчивается на тех словах, которые говорят бывшие друзья, обнаруживая странные способы оправдания. Нет возможности найти ту сингулярность, где была бы небольшая часть необходимого понимания. Способы жить и умирать вместе (у Харауэй) выглядят как злая шутка совпадений и последовательностей, с которым пришлось иметь дело после [моих] восемнадцати лет, после 2019 года.
