как будто находясь в любви
Писатель фетишизирует вещи и слова. Слова и вещи становятся музеями. Есть музеи писателей, их персонажей и целые литературные города.
печенье

4, Rue du Docteur Proust, 28120, Illiers-Combray, France.
Элизабет Амио не покидала — сначала Иллье, потом дом, потом комнату, потом постель; она не занимала много места — переходила из одной комнаты в другую, пока в первой проветривали и перетряхивали; разговаривала с собой; сплетничала со служанкой; любила кормить племянника размоченным печеньем. Тетя Элизабет заснула, а потом проснулась Леонией — еще одним звеном в грандиозной романической матрице, в доме, теперь пульсирующим двойными, тройными, как коронарные шунтирования, смыслами, в доме, где водят экскурсии отечественные волонтеры, так что сперва идет вкрадчивое Maison de Taunte Leonie, а потом всякие непонятные слова французские. Иллье превратилось в Комбре. Племянник повзрослел.
Память не телесна — и регенерировать, как лапа звезды, она не умеет. Пруст в буквальном смысле вгрызался в прошлое, ведь печенье «мадлен» возвратило прошлое и зарифмовало антисемитизм, антигерманизм и антикоммунизм. Выдающийся критик буржуазности, Пруст, совершенно аполитичный сам по себе, подспудно вложил столько политики в свой роман, что социально-критическими становятся даже разговоры о погоде — ведь это многое говорит об обществе, когда обсуждать больше нечего.
Пруст написал свою жизнь. Он жил в квартире с задощеченными окнами, воспитывал воздержание, испытывал простыни на касание, страдал
Святослав Рихтер как-то сорвал там веточку боярышника (ему садовник разрешил) и поставил в вазочку в комнате тети Леонии/Элизабет — комната напомнила ему о материнской; несмотря на то, что Пруст учит неповторимости собственной жизни, его роман-река — это неизбежно сборник архетипов и отражающих поверхностей, где каждый узнает себя. Пруст, хотел он того или нет, смог интимное переживание обуржуазить, и, по великой иронии, основной интерес для туристов представляет не сам дом с его цветником, кухней, комнатой отдыха и экзотическим садом, а пекарни, коих тут пять, которые пыжатся меланхоличными молодыми людьми со всего света, совершающими пилигримаж, выкладывающими мадленки в инстаграм.
бабочки
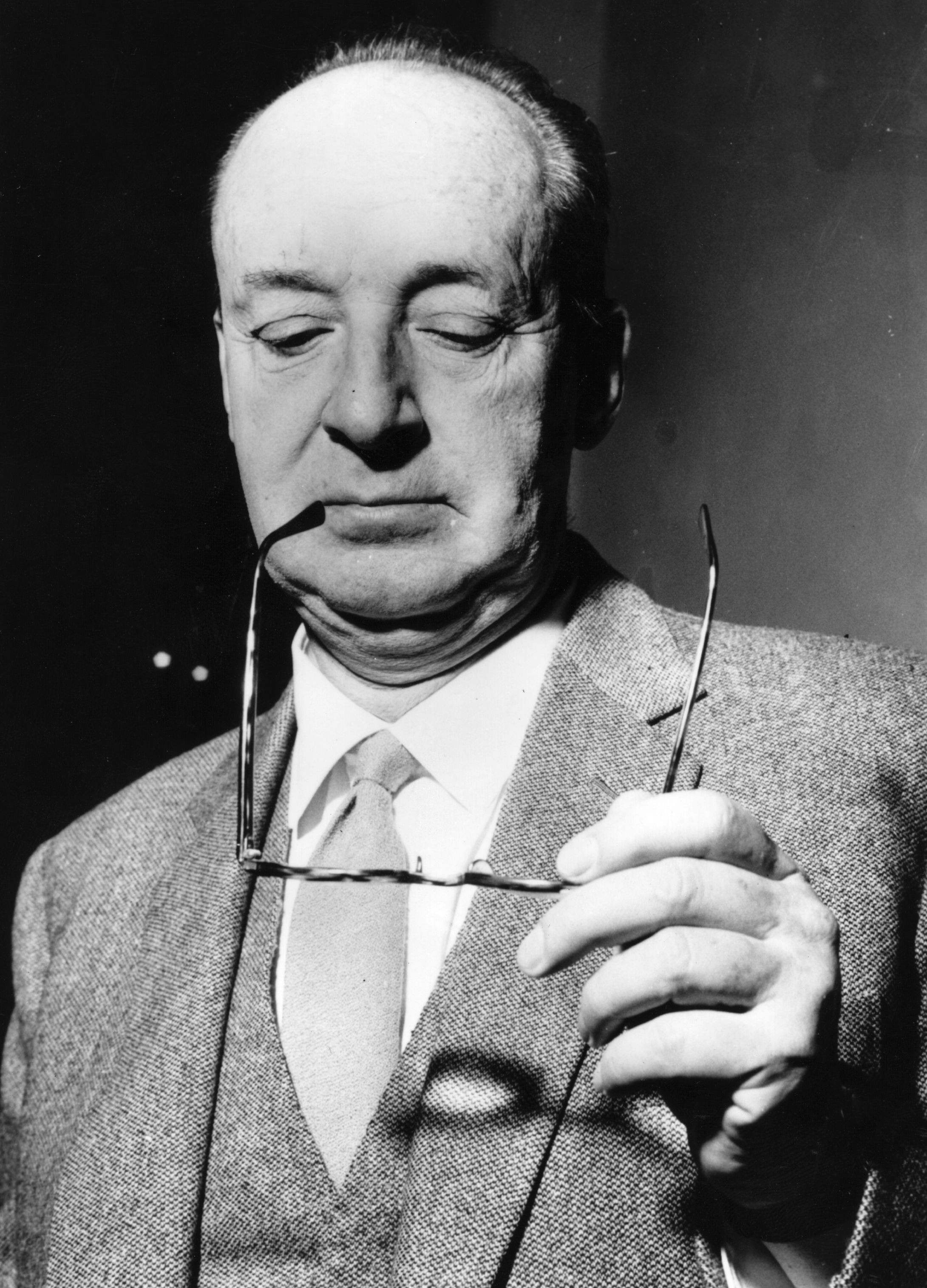
Россия, Санкт-Петербург, Большая Морская улица, 47.
В центре Петербурга, красивого русского города, где всё не слава богу (улицы узкие, дома низкие, автомобилисты дикие, пешеходы ленивые, ночи белые), а делать совершенно нечего, кроме как пить, страдать и практиковать суицид, — в центре Петербурга, в здании раннего модерна, где в сталинские времена располагался Комитет по цензуре, провел детство писатель, столь же взаимоисключающий, как и город, его приютивший, а потом исторгнувший за ненадобностью в тридевятые звездополосые края. Там он пригодился как диковинка — клинически гетеросексуальный университетский профессор в гетрах и со скучной залысиной, который высекал костер под всеобщим приятным, сытым буржуазным существованием посредством террористической искры инцеста («Ада»), педофилии («Лолита») и гомоэротики («Бледный пламень»).
Свой последний русскоязычный роман Набоков заключает сценой, где главные герои — поэт, которого лучше всего характеризует сцена, где он оставляет на берегу трусы и идет купаться, а по возвращении трусов не обнаруживает, и противоположность его, дама его сердца, практичная еврейка, направляются домой — он забыл ключи в другом пиджаке, она отдала свои родителям, за которыми тянется клуб окончательного локомотивного дыма; домой, намекает автор, дороги нет.
Пруст был геем, Набоков геев не любил, но Прусту прощал, потому что родное заметно даже в инаковости, и писали они об одном и том же. У Набокова был всего один дом — и в смысле единицы недвижимости, и в другом смысле — тоже. Сейчас в комнатах лакированного красного дерева находится коллекция семейных дагерротипов, 16 бездыханных, но одухотворенных чешуекрылых созданий, 10 единиц личных вещей и первые издания в количестве 23 штук. Набокова не было в России с 1919 го года.
окурки

Çukurcuma Caddesi, Dalgıç Çıkmazı, 2, 34425, Beyoğlu, Istanbul, Turkey.
У Кемаля было несколько важных мыслей о музеях:
1. Музеи созданы не для того, чтобы ходить по ним и смотреть на вещи, а для того, чтобы чувствовать и жить.
2. Коллекция создает душу вещей, которая должна ощущаться в музее.
3. Когда нет коллекции, то это не музей, а выставочный зал.
Фюсун скурила 4,213 сигарет; каждый окурок из этого ненормального, вывернутого числа, где шел нормальный отсчет, но тройку как будто преждевременно выдернули и насильно вставили в конец, Кемаль сохранил и поместил при входе в свое святилище. Не считая окурков, четырёхэтажная коллекция содержит более тысячи экспонатов: сережка, которая затерялась в простынях во время любовных игр, билеты в кино и афиши, фотографии из отеля Хилтон, фарфоровые собачки, которые по очереди несли свою вахту в квартире родителей Фюсун, красное платье, в котором она была особенно прекрасна, рисунки птиц, кружки, ложки, вилки, помнящие прикосновение ее губ, платок с запахом ее кожи и многое, многое другое. Фюсун и Кемаля никогда не существовало — их придумал Орхан Памук — нобелевский лауреат, борец за права армян и очень чувственный человек, полная противоположность Пруста и прямой его последователь.
«Музей невинности» — это две независимые вещи. Первая — душераздирающий 600-страничный кирпич про кулуарные любовные разборки стамбульской богемы, один из важнейших романов нулевых под маской индийской мелодрамы: богатый, готовящийся к свадьбе турок среднего возраста Кемаль по всем законам жанра влюбляется в свою далекую бедную восемнадцатилетнюю родственницу; во время и по завершении десятилетнего романа Кемаль собирает упомянутые объекты, чтобы в конечном итоге основать полноценный музей, посвященный их с Фюсун любви. Постмодерн начинается, когда в дело вступает второй Музей невинности — осязаемое географическое место в центре Стамбула; при этом непонятно, что было создано по мотивам чего. Памук начал собирать коллекцию в 90х, ему помогали семья, друзья и город. Это не музей Памука, но
Музей невинности — небывалый случай: компетентный нынешней художественной парадигме, постмодернистский (несуществующей женщине), но избавленный от иронии, воплощающий торжество одержимости и сентиментальности. Все в этом музее должно выступать против — то, что это любовь вымышленная, что ее никогда не было и что так никогда не бывает, что чувства фиктивны, а материализм реален, что время не пятится, а «Исцеление любовью» — только название плохого русского сериала, что сколько ты палочкой не тряси — волшебной она не станет; ничто из перечисленного, тем не менее, не мешает сказать, что любовь есть, а в музеях надо жить.
Для обладателей книги вход бесплатный.
