Эрос и воображение

Герметический философ и поэт Евгений Всеволодович Головин учил, что человеку доступны три уровня манифестации: материальный уровень (чувственный мир), уровень сна и сновидения, мир воображения (или имагинальный мир, mundus imaginalis, то есть мир промежуточный, находящийся между чувственной реальностью и умопостигаемым миром Духа). Когда я употребляю слово «воображение», я далека от того, чтобы считать его способностью к порождению бесплодных фантазий; имагинальный мир — это мир первообразов-архетипов, место встречи божественного (нисходящего) и человеческого (восходящего), сакральный центр, в котором происходит coincidentia oppositorum. Это мир души, царство метафизических образов, говоря о котором Анри Корбен приводит слова из гностического Евангелия от Филиппа: «Истина вошла в мир не нагой, но в символах и образах».
Ученик Анри Корбена Жильбер Дюран сделает идею mundus imaginalis фундаментом своей «социологии глубин» и введет концепцию l’imaginaire, имажинэр, что означает одновременно воображаемое-воображающее-воображение. О «воображении» Корбен пишет, что imaginatio (понимаемое исключительно как “способность создавать мир”, «imaginatio vera et non phantastica») представляет собой главный инструмент алхимической операции, а Карл Густав Юнг называл его ключом к постижению Opus. Вспомним Якоба Беме, для которого творческая сила, с помощью которой Бог создал мир, была ничем иным, как «божественным воображением», Софией, мудростью Бога. Таким образом, воображение ни в коем случае не выступает как синоним фантазии (принадлежащей к материальному уровню манифестации).
В
1) о даймонах (греч. Δαίμων), согласно Платону, посредниках между богами и людьми;
2) об Эросе (греч. Ἔρως) как космогонической первопотенции, протогоносе (πρωτόγονος), крылатом андрогинном божестве, известном также как Фанес.
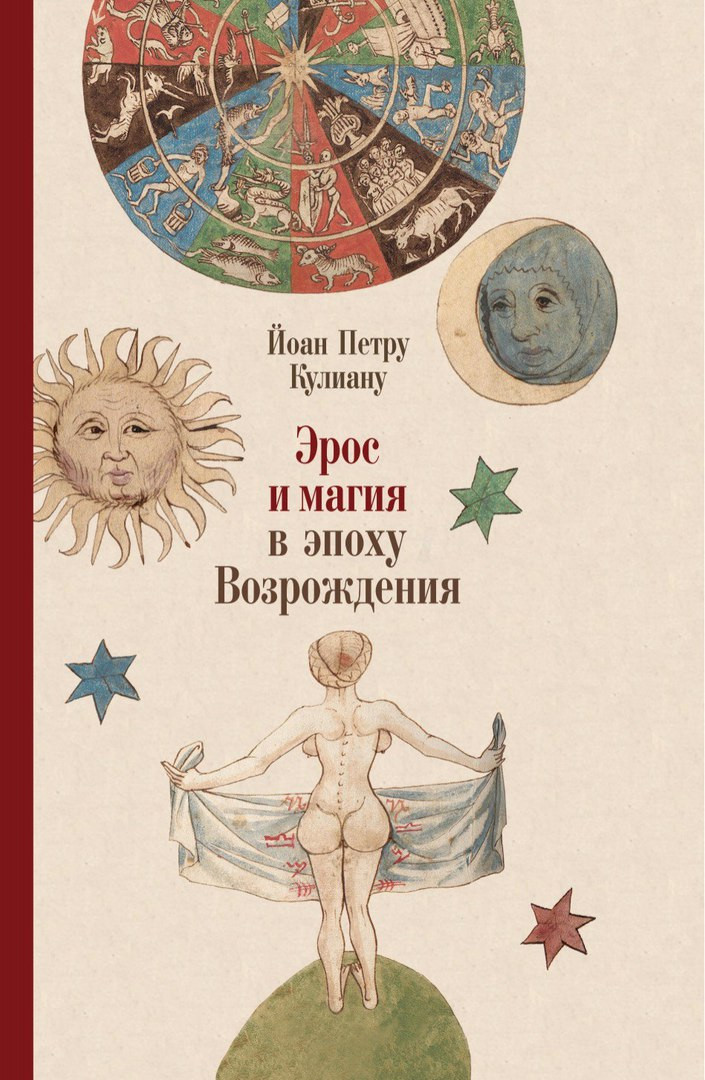
Й.П. Кулиану отмечает, что платоники называли Эрос daemon magnus (великий даймон). Евгений Головин пишет о нем: «Вокруг этого бога, в напряженности аттракций и репульсий, притяжений и отталкиваний возникла относительная определенность верха и низа, неба и земли, мужчины и женщины, относительная, потому что все содержится во всем, небо в земле, земля в небе, мужчина в женщине, женщина в мужчине». Кроме того, он подчеркивает, что, согласно воззрениям древних греков и египтян, мир был создан эротически, то есть благодаря силе Эроса: «Демиурги греческого и египетского мира создавали космос путем любви». Эрос занимает промежуточное положение между богами и людьми, красотой и безобразием, небесным и земным, Нусом и материальным миром. Эрос сочетал браком Небо (Уран) и Землю (Гея), царил над любовными сближениями Зевса с богинями и земными женщинами; Эрос опьянял дионисийских менад и внушил Актеону дерзкое желание подглядеть за Дианой; Эрос вдохнул в гностическую Софию неисцелимую тоску по Полноте и заставил устремиться к Пределу. Я хочу подчеркнуть связь «даймоническое-эротическое-имагинальное», выявить три названных элемента как единый онтологический уровень, единое [промежуточное] пространство. В книге «Эрос и магия в эпоху Возрождения» Й.П. Кулиану не случайно акцентирует внимание на трактовке «магии» как «науки о воображаемом».
Я не устаю подчеркивать, что в античной парадигме слово Δαίμων не имело негативных коннотаций. В платоновском “Пире” мудрый Сократ дает ответ на вопрос, каково назначение демонов:
«Быть истолкователями и посредниками между людьми и богами, передавая богам молитвы и жертвы людей, а людям наказы богов и вознаграждения за жертвы. Пребывая посредине, они заполняют промежуток между теми и другими, так что вселенная связана внутренней связью. Благодаря им возможны всякие прорицания, жреческое искусство и вообще все, что относится к жертвоприношениям, таинствам, заклинаниям, пророчествам и чародейству».
По Платону, демоническое есть промежуточное, т.е. посредничающее между божественным и человеческим. Это mundus imaginalis как место встречи не-человеческого с человеком; это «тело» Дианы, за купанием которой подглядел Актеон; это эпифания Диониса, зримо явленного своим неистовым вакханкам; это сны oraculum, описанные Макробием в «Комментарии к Сну Сципиона», где нам являются сами боги, чтобы открыть грядущее. Демоническое — это огненная нить, из которой сотканы образы божеств, ибо явись они перед нами в своей опасной обнаженности, нас постигла бы участь Семелы. Ренессансный неоплатоник Пико делла Мирандола писал, что «ни одна духовная вещь, опускающаяся вниз, не действует без облачения». Демоническое есть «облачение» божественного, нисходящего к человеческому. Совершенно иную картину мы встречаем в парадигме Средневековья. Критикуя трактат “О демоне Сократа” Апулея из Мадавры, Августин настаивал на том, что демоны были не посредниками между богами и людьми, а бесами или злыми духами. В христианском мире «демоническое» имеет строго негативный смысл. По этой причине я предлагаю использовать два понятия: «даймоническое» (античная парадигма) и «демоническое» (христианская парадигма), и впредь не путать одно с другим.
Согласно Й.П. Кулиану, душа говорит на языке, отличном от языка тела, и способна воспринять тот или иной архетип или эйдос только на языке образов-фантазмов (aneu phantasmatos) — посредством proton organon, особого тонкого органа, расположенного в сердце. В свою очередь Анри Корбен говорит об органе Имагинации, органе теофанического восприятия, поскольку, «чтобы достичь мира тонкой материи, нужно иметь орган познания, отличный и от чистого интеллекта, и от органов чувств». Стоики учили о «господствующем начале» души, или hegemonicon, который вбирал в себя потоки пневмы (т.е. самой души), порождающей умопостигаемые образы (phantasia kataleptike); эти образы «эстампировались» на пневме и лишь затем могли быть постигнуты разумом. Когда художник находится в состоянии творческого вдохновения, во власти некой идеи, которая безусловно принимает тот или иной образ, его пневматический орган «поражен» (или лучше сказать «заражен») этим образом. Художник может быть одержим им как тот, кто пребывает в состоянии влюбленности.
Образ захвативший пневму человека, засевший в ней как вирус, способен как окрылить, так и низвергнуть в пропасть. Он может раскрыть творческий потенциал того, кто ему доверился, а может оказать воздействие сродни яду, обратив кровь в смолу. К примеру, мужчина, павший жертвой недуга, известного как hereos (или amor hereos), утопает в темных водах меланхолии; его сознание полностью заполнено образом обожаемой им особы.
Физический мир теряет всякую значимость настолько, что элементарные потребности в сне, утолении голода или жажды уступают место агонии — агонии тела, души и ума. Человек напрягается как струна, готовая вот-вот порваться. Кулиану пишет: «Если внимательнее вчитаться в описание amor hereos [романтическая (буквально: героическая) любовь] у Бернара де Гордона, можно заметить, что речь идет о некоем воображаемом инфицировании, которое выражается в истощении пациента, не слабеют только его глаза. Почему именно глаза? Потому что изображение женщины проникает в человека через взгляд на нее и посредством оптического нерва передается в сознание, где и формируется представление. Превратившись в фантазм, этот навязчивый образ занимает три сердечных желудочка, вызывая расстройство virtus estimativa, то есть разума”. Однако любовная одержимость делает с человеком то же, что делает с ним пневматическая “инфекция” иного рода. Существует другая одержимость — идеей или вопросом, ставящим на кон саму человеческую жизнь. Подчас человеку даны такие испытания, что его зараженная пневма уподобляется живому пламени, сжигающему и его тело, и его разум.
В книге «Ладья Харона» Паскаль Киньяр пишет: «Альберт Великий говорил, что Лишение созерцания Божия есть самая страшная из адских мук. Существуют три адские кары — Телесные муки, пытка Вечностью и Лишение созерцания Божия. В Иране лишение созерцания Божия называют словом duzokh. Что означает: «Время, остановившее свой бег». Предвечный изрек грешникам: «Три дня будут для вас как тысяча лет». Такова Божья кара — остановленное время».
«Неподвижная стрела» Геракла = «Времени, остановившему свой бег». Сизиф, который был обречен катить свой камень в гору, а также Тантал, пьющий и не способный утолить своей жажды, не имели никакого представления, что испытывал Геракл, пустив в полёт стрелу…В 11-й песне гомеровской «Одиссеи» дан образ «неподвижной стрелы».
Всем известно, что каждый человек владеет некой суммой фобий, из которых по-настоящему парализует, быть может, только одна. Для автора этой книги нет ничего страшнее и уничтожительнее «остановившегося времени», «неподвижной стрелы». Пусть взлеты, пусть провалы, пусть падения в пропасть чередуются с триумфальными восхождениями, пусть будет все, что угодно, только не stasis. Пусть стрела летит — в цель или мимо цели — только пусть летит, стремится, рассекает пространство. Это не род «социальной тревоги» — это метафизический страх, понятный только тому, кто сам его испытал. Его невозможно ухватить ментально, продумать, дать ему характеристику и предположить, какими средствами можно от него избавиться. Его нельзя ни осмыслить, ни почувствовать кожей, что, однако не мешает ему лишать человека рассудка и заставлять его сердце учащенно биться. duzokh, о котором пишет Паскаль Киньяр, созвучно с персидским словом «дӯзах» (Duzakh, دوزخ). Оно означает «ад». Возможно, в книге Киньяра опечатка (?).
Среднеперсидское dusaxw-dusax — duš — плохой, axw — мир, бытие. Собственно, речь о «худшем бытии».
У Фауста Мефистофель просит, чтобы тот остановился. «Verweile doch!» (Помедли!) — к этой формуле сводятся, в сущности, мефистофельские подсказки. Мефистофель знает, что в тот миг, когда Фауст остановится, его душа погибнет». Внутри продолжается бешеный ток мысли, крови, страсти, воли, но все блокирует тупик безвременья. По внутренним маршрутам ты уже преодолел эпохи, вступил в новые земли, коснулся взглядом новых небес, но внешний мир дает один ответ: duzokh. «Три дня будут для вас как тысяча лет». Кто не переживал подобного, не должен даже размышлять над тем, что он здесь прочтет. Нельзя постигнуть действие яда, как, впрочем, и алхимический процесс его превращения в панацею, всего лишь прочитав записки его жертв или воскресших. События недельной давности кажутся тебе случившимися годы назад. За несколько часов ты, припавший сухими губами к кубку бытия, опьяняешься жизнью до преизбытка, до пресыщения. Пока человек за соседним столиком пил свой черный кофе, ты успел оживить в своей памяти все мифологии, проследить их влияние на всевозможные системы мысли, прийти к опасным гипотезам и даже устать от еще одной прожитой жизни. 30 минут как три десятка лет. Duzokh. Ты по-прежнему неостановим (нет, ты еще более неостановим, чем прежде), но словно запаян в остановившееся время. Как Люцифер, закованный во Льдах в самом центре Дантова Ада.

Описываемое здесь не имеет образа-фантазма, но одерживает и заражает пневму куда сильнее, чем то, что мы способны облачить в узнаваемые формы. Здесь постигается разница между архетипом и архетипическим образом. Это разница между обнаженным огнем и огнем, заключенным в лампе. Человеческий глаз не воспринимает никакого образа, ему нечего передать своему hegemonicon, но разум уже захвачен чем-то, что миновало промежуточный мир и, не облачившись в даймонические покровы, решило воздействовать напрямую. Наше воображение, наш имажинэр, начинает искать спасение в символах. Оно создает внутренние изваяния, которым сможет поклониться или разбить их. Человек, воплощающий в сценарии своей жизни определенные архетипические модели (будто то жертва Алкесты или спуск Одиссея в Аид, битва богов и титанов или муки Тантала, путь к бессмертию Гильгамеша или дерзновенный порыв Софии Ахамот), будет вольно или невольно конструировать череду событий, посредством которых он сможет реализовать «свой миф». Единственный инструмент для этого — имажинэр.
Жажда божественного нуждается в опоре — внешних атрибутах культа. Имажинэр породил все: мандалы, янтры, образы богов (иконические изображения), «жилища богов» (статуи, храмы), голос богов (пифии, пророки), служителей богов (жрецы, священники). Мы хотим созерцать подобия оригиналов, наши глаза настроены на восприятие «эстапмов» Абсолюта. Эпифании богов почти всегда имеют образное описание. Эпифания как звук, шум, мелодия, голос, цветовая или световая вспышка, касание встречаются значительно реже. Язык воображения есть язык образов. Язык даймонического — язык образов. Язык эротического — язык образов. Воображаемое-даймоническое-эротическое всегда оказывают воздействие на зеркало нашей пневмы. Эту триаду можно дополнить четвертым элементом, а именно «мистериальным», поскольку то, что воспринимали посвященные, воспринималось ими в mundus imaginalis.
Н.Сперанская. из черновиков к книге «Фигуры теофании. Очерки о возрождении Античности»
