По поводу книги Германа Люббе «В ногу со временем. Сокращенное пребывание в настоящем»
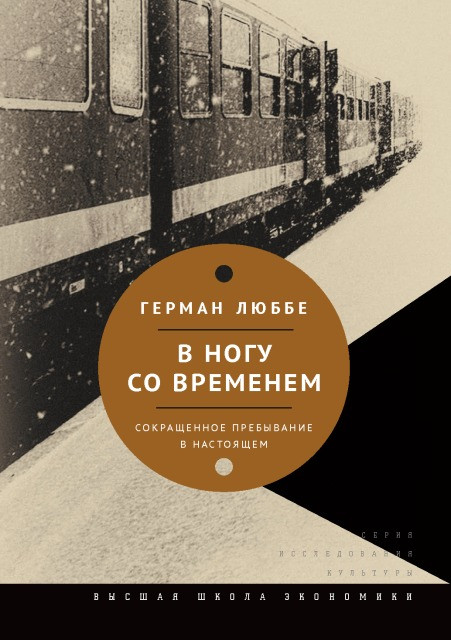
Исследование Германа Люббе «В ногу со временем. Сокращенное пребывание в настоящем» предлагает опыт осмысления Современности как того, что возможно вне крайностей (правого) консерватизма и радикального (левого) утопизма. Подобная форма мышления заранее предвосхищает и некоторые риторические приемы, и отдельные аналогии, и общую логику повествования. (Например, от утверждения политической нейтральности определенных социально-культурных институций (архитектура) до сближений культурной политики под рамкой «тоталитаризм» Германии и Советского Союза 30-х годов). Однако, несмотря на обилие суждений, вызывающих ассоциации с пассажами из российских учебников по Политологии или Культурологии постсоветских времен, по-настоящему любопытным представляется один из центральных сюжетов книги о темпах скорости, отраженный уже в названии («сокращенное пребывание в настоящем»), который объединяется с проблемой архива вообще и музея в частности. Так вопрос об актуальном (в) искусстве помещается в перспективную для анализа оптику.
Одно из утверждений Люббе можно считать «общим местом», так как отечественный потребитель культуры давно и хорошо его усвоил: музей как место встречи с искусством вынесено в пространство нейтральной, не только политической, но и
Однако, вводя сюжет о скорости и сокращенных темпах пребывания современного человека в настоящем, исследование Люббе позволяет обратиться к проблеме музеефикации искусства «дня сегодняшнего», так как преимущественно с ним складывается парадоксальная ситуация. Понятно, почему музей является институтом, ориентированным в прошлое, то есть обращенным преимущественно к классическому искусству, т.е. уже мертвому. (Как этот едко выразил в эссе «Проблема музеев» Поль Валери: «есть какое-то безумие в подобном соседствовании мертвых видений»). Более того, очевидно, что музей не только репрезентирует образы прошлого своим контентом, но и их конституирует. (О чем пишет Андре Мальро в своих «Голосах безмолвия»). Не менее очевидно, как указывает на то Хэл Фостер, что само понимание современного искусства в категориях истории искусства «находится в зависимости от своего музейного окружения». Но если связь Музея и Истории слишком очевидна (так как даже музеи современного искусства преимущественно посвящены вчерашнему дню этого самого искусства), то связь Музея и актуального момента в «текущей жизни» искусства отнюдь таковой не представляется. И именно вопрос о темпах скорости в мире искусства, который ставит Люббе, позволяет прояснить ряд важных аспектов.
«В музее, как это представлялось Маринетти, сберегается старое, которое дискредитировано инновационной практикой авангарда и превращено в окончательно устаревшее. Но это означает, что в условиях авангардизма — пока футуристическая культурная революция музееборцев еще не состоялась — музей как место присутствия устаревшего не исчезает за быстро растущим множеством нового, а, в свою очередь, стремительно расширяется. Тот, кто уже сегодня хочет быть завтрашним, послезавтра будет вчерашним — такова неизбежная судьба любого авангарда, и если приоритет значимости авангарда должен относиться и к авангарду вчерашнего дня, именно авангард вместе с инновационным процессом ускоряет также и музеефикацию».
В этой сентенции Люббе обращает внимание на то, как в условиях быстрорастущего рынка искусства, само понятие истории (и истории искусства, в частности) претерпевает фундаментальные изменения. Представление о прошлом все больше уплощается до калейдоскопичности множества событий, которыми отмечено искусство XX-XXI веков. Цель актуального художественного жеста «попасть в музей» (что, в свою очередь, становится доступом к рынку и средством повышения цены произведения) может прочитываться и как установка «стать частью истории», что в условиях критической функции искусства создает парадоксальную ситуацию. А именно, чтобы жест был понят в качестве художественного, он должен быть признан институцией (=принят в музей). Но признание жеста институцией влечет за собой его историческую контекстуализацию (эту роль выполняет, например, сопроводительный текст к выставке или экспозиции), что помещает подобный жест в состояние разрыва. В итоге художник вынужден признать: «я говорю о сегодняшнем дне лишь став частью истории, а потому мое суждение перманентно исторично и никогда полностью не актуально/современно».
Рассуждая о роли и значении для эпохи Модерна искусства авангарда Люббе указывает на несбывшиеся ожидания, согласно которым «вместо того чтобы лишить власти музей как культурный институт [авангард] способствует тому, что теперь благодаря спекуляции художественная продукция как никогда прежде в своей истории устремляется занять место в музее». Однако происходит это не только в силу «алчной» логики функционирования произведения искусства как товара, но в силу того, что именно авангард «ускоряет трансформацию искусства в музейное искусство». Проще говоря, скорость обновления (которая специфически характеризует искусство авангарда) способствует постоянного самораспаду художественного канона (особенно внутри традиции авангардного искусства), целесообразность и жизненность которого поддерживается музеем как гарантом не только качества и цены, но, в первую очередь, Имени искусства. Так наряду с мнемонической функцией, сохраняющей/конституирующей образы прошлого, музей наделяется функцией утверждения и легитимации определенных опытов в качестве художественных.
Таким образом, музей куда меньше, чем принято думать, связан с прошлым, память о котором он призван нейтрально хранить, но куда больше призван к жизни моментом настоящего. И вопрос здесь не сводится к тому, чтобы признать или не признать конкретную актуальную практику в качестве художественной. Музей, будучи, как отмечает Люббе, «одной из важнейших гарантий автономного искусства», не столько сохраняет его автономию и независимость от вызовов рынка и (ли) политической конъюнктуры, но, о чем Люббе уже не пишет, скорее сам и производит эффект автономии. Иначе говоря, музей, наделяя произведение Именем искусства, параллельно с этим лишает его актуального значения, т.е. порождающего эффект «здесь и сейчас». Вместо этого, как правило, предлагается реконструированная фантазия о прошлом. Даже (или вернее преимущественно) contemporary art в пространстве музея становится картинкой самого себя. Радикальный жест современного искусства перемещается на глянцевые страницы музейного каталога, что делает его прирученным, т.е. автономным от его материального эффекта.
Описанная здесь апория музеефикации актуального искусства не нова в первую очередь для западной мысли и практики. Художественные опыты Марселя Бротарса, Даниэля Бюрена, Ханса Хааке и др., ставшие известными под ярлыком «институциональная критика», уже давно являются одним из направлений критического искусства. Однако в отличие от иконоборческого пафоса итальянских футуристов начала ХХ века, стремившихся отменить музей, в рамках указанного направления речь идет об отказе признать пространство музея в качестве нейтрального и указать на политические, экономические и иные скрытые мотивации принятия решений в сфере культуры. Хотя музей как институт ревностно охраняет автономию произведения искусства, сам он не автономен. Или, как пишет Теодор Адорно, «музеи свидетельствуют о нейтрализации культуры». Только достигается эта нейтрализация отнюдь не нейтральными методами.
Было бы ошибочно свести стратегию музея по отношению к классике и актуальному искусству к некой единой логике тотальной историзации. Здесь уместно вновь обратиться к работе Люббе: «относительно долгий престиж — это и есть, таким образом, то, что по контрасту с актуальным литературным авангардом составляет сущность классики». Как очевидно, вопрос вновь упирается в проблему скорости: актуальное оказывается тем, что не обладает «относительно долгим престижем». Или, проще говоря, актуальное менее долговечно, более преходяще. Однако связано это, если принять во внимание неавтономность музея как институции, не с качеством произведений искусства (в духе «раньше было лучше, а потому и хранится это дольше»). А с тем, что эстетически Современность бросает вызов количеством и скоростью появления художественных практик, которые необходимо успеть нейтрализовать актом признания (=помещением в музей), но которые объективно невозможно пестовать как фундаментальные (=классические). Актуальный культурный продукт в большинстве случаев не исключается репрессивным жестом отрицания («это не искусство»), но снисходительно включается в одну большую историю искусства («и это тоже искусство»).
«Музей, основанный на идеалистических предпосылках, является устаревшим институтом, находящимся в непростых отношениях с новаторским современным искусством». Таким образом в своей книге «На руинах музея» Даглас Кримп формулирует сложность взаимосвязи музея с актуальным моментом художественных практик. Кримп идет дальше в своем анализе и показывает, что одной из центральных стратегий музеефикации является утверждение непрерывности и преемственности между классикой и современным искусством. Обращая свой взгляд в прошлое музей «вырывает объекты из их изначального исторического контекста, но не ради политического осмысления, а чтобы создать иллюзию универсального знания. … Музей конституирует историю культуры, оперируя своими объектами независимо от материальных условий как их собственной, так и нынешней эпохи». Если любой исторический рассказ о «жизни» классического искусства вынужденно остается в режиме более или менее точной реконструкции образа прошлого, то актуальное искусство, более близкое хронологически, может претендовать на то, чтобы быть не только реконструкцией. Сила по-настоящему современного художественного жеста может быть определена в связи с его позицией относительно музея. Согласие с автономией музея влечет согласие с автономией искусства, что переводит произведение из режима «актуальное» в режим «история». Однако подобное попадание в один из канонов лишь укрепляет пессимизм уже упомянутого выше эссе Поля Валери, в котором поэт видел в музее не более чем кладбищенское пространство, дарующее иллюзию культурного богатства, в условиях неспособности этими богатствами пользоваться.
