Упражнения вербального перевоспитания: «Проэмы» Франсиса Понжа
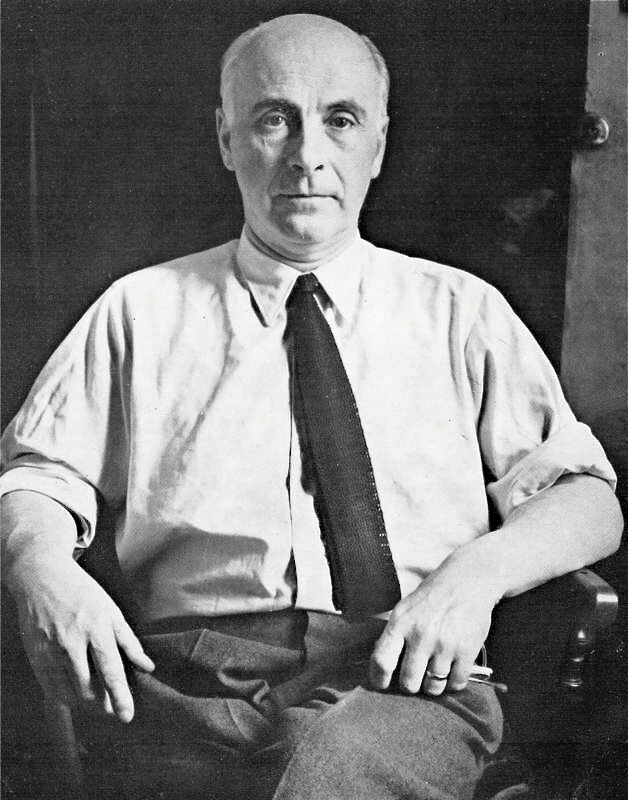
Единственная до настоящего момента отдельная публикация произведений Франсиса Понжа на русском языке состоялась почти 20 лет назад, когда была переведена его самая известная книга «На стороне вещей». Несмотря на скромный объем (чуть более 200 страниц) издание содержало в качестве приложений тексты из иных сборников (в частности, несколько фрагментов из «Проэм») и заметки о его творчестве именитых коллег (Камю, Сартр, Бланшо). Однако столь последовательная презентация одной из ключевых для французского письма ХХ века фигур не позволила Понжу стать частью русскоязычного контекста. Вероятно, одним из препятствий оказалось его положение «поэта» в кавычках даже у себя на родине: сам он пытался дистанцироваться от ключевых поэтических традиций и занимал позицию, которую весьма условно можно обозначить как «анти-гуманистическую». А так как эта стратегия была обозначена Понжем уже в 30-40-е, то есть задолго до возникновения моды на дегуманизацию во французской теории 60-70х годов, то его произведения оказались в теоретическом вакууме, который сыграет злую шутку с ним и несколько позже.
Анти-поэтическую позу Понжа переводчица его первой книги на русский Дарья Кротова комментирует следующим образом: «Заявление “я не поэт”, авангардное по духу, не окрашено авангардистской заносчивостью. Его нужно рассматривать как обычную для Понжа требовательность к употреблению слова. Оставаясь вне литературы, он не претендует и на присущие ей наименования. Назовем вещи своими именами — говорит он, — не литература — скорее, “слежка”, “засада”, а результат — то, что попадает в ловушку взгляда» [1]. Развивает эту мысль два десятилетия спустя переводчик «Проэм» Валерий Кислов: «Автор описывает, как борется со словами, как слова борются друг с другом и как они пытаются одолеть предмет описания; невозможность “стихотворения” заложена уже в “стихотворчество”; любое слаженное оформление — стихосложение — постоянно подрывается изнутри» [2]. Или как это резюмирует сам Понж: «есть лишь один выход: говорить против слов» [3].
Внимание к письму Понжа по стороны философов или философствующих писателей не случайно. Его опыт разворачивается на границе, где поэтическое вот-вот готово соскользнуть в теоретическое; уклонение от поэзии «в чистом виде» следствие иной задачи и иного масштаба вопрошания, ведь «чтобы оставаться хорошим литератором, чтобы нравиться вам — я должен оставаться in petto философом» (125). Но и на территории теории Понж если и был встречен с некоторым вниманием и воодушевлением, то с пониманием все оказалось сложнее. Камю попытался вписать его в круг экзистенциализма и философии абсурда («я думаю, что На стороне вещей — это в чистом виде абсурдное произведение» [4]), и даже куда более проницательный Бланшо видит в методе Понжа скорее циркуляцию взгляда поэта до вещи и обратно («дерево Франсиса Понжа — это такое дерево, которое, понаблюдав за Франсисем Понжем, описывает себя так, как, по его мысли, сам Понж мог бы себя описать» [5]). На удивление именно Сартр отметил и предвосхитил будущую актуальность автора «Проэм», обратив внимание на стремление к десубъективации взгляда, его переноса внутрь самих вещей: «он пытается не столько наблюдать за галькой, сколько проникнуть вовнутрь ее и глядеть на мир ее глазами» [6]. (Но даже Сартр не улавливает важного для Понжа различия между феноменологическим призывом «назад к вещам» и стремлением быть «на стороне вещей».)
Поэтому особенно не удивительно, что и сейчас, в теоретическом контексте, ориентированном на
Учитывая обозначенный контекст появление на русском языке «Проэм» ставит перед читателем еще более изысканное препятствие. Тексты, вошедшие в сборник, писались во многом в ответ на прозвучавшие слова по поводу «На стороне вещей». То есть они одновременно продолжают и расширяют поэто-логический процесс, который ведом перманентными сомнениями и провалами, и поэтому он всегда разворачивается «чуть в сторону, к очередным издержкам» (16). Именно окольные маршруты, интуитивные блуждания на тех полях, к которым не ведут даже заброшенные тропы, составляют важную часть метода Понжа. Причем подобный скептицизм к уже сделанному обусловлен не декадентским высокомерием, а строго логической необходимостью: проблемой инерции, сковывающей потенции словоупотребления.
«Пусть слова не обижаются: учитывая привычки, которые они подхватили, побывав в такой массе смрадных ртов, требуется особое мужество для того, чтобы не только решиться писать, но даже говорить. Куча ветхого тряпья, которое и пинцетом лучше не брать, — вот что нам предложено ворошить, перетряхивать, перекладывать. В тайной надежде, что мы замолкнем. Раз так — примем вызов!» (82-83).
Таким образом, перед читателем образец письма, который сложно по-дружески проигнорировать, похлопав по плечу традиционным набором слов восхищения литературного критика. Ускользая от имеющихся классификаций для поэтических стратегий, с некоторой долей уверенности в отношении «Проэм» можно утверждать следующее.
Понж позволяет себе одновременно утверждать важность логического и сохранять поэтический (на)строй: мысль должна быть не столько аффективной, сколько стилистически ухоженной. Понж заставляет слово выпадать из строевого шага прекраснодушного благозвучия и удерживать читателя за руку аккуратной зачарованностью: речь дробится на малые фрагменты, чтобы выводить из сна ритмически обусловленного гипноза. Понж блуждает по кромке поэтического и прозаического, но вместе с тем остается предельно прямолинейным, сохраняя твёрдость поступи на каждой странице: не впадать в чрезмерность риторики.
Все это продукт установки, что «…следует всё говорить просто, ставя перед собой цель не очаровывать, а убеждать» (20). Ведь «слово, закаленное определенным образом, — это, безусловно, мера пресечения» (31). И пресекается здесь желание некритического растворения в прочитанном. Слишком прозаично? Возможно, но у этого «слишком» согласно Понжу иной порог восприятия — по ту сторону возможного. Или вернее шкала-горизонт переворачивается с ног на голову. Отсюда провокативная установка: «надо писать ниже своей возможности» (121). Потому что только так и удастся избежать впадения в нарциссический гуманизм поэзии.
Письмо Понжа принадлежит своему времени (тексты, вошедшие в сборник писались в 20-40-е годы), но последовательно от него уклоняются, сохраняя следы эпохи, но ими не покрываются полностью. Его реакция на моды — будь то автоматическое письмо сюрреалистов или культ Малларме безжалостна. Отвергая успешность опытов даже его самых именитых последователей (Поль Валери), Понж категоричен «если размахивать Малларме, то первым же, кто расколется, окажется какой-нибудь его последователь, дутый из стекла» (51). Его ответ на трагические стоны подавленных (и подавившихся в итоге) абсурдом мыслителей и писателей (Камю и Сартр) — переполнен решительностью (а тексты о решении принадлежат годам войны). И все потому, что «поэт — не для того, чтобы выразить тишину. Поэт — чтобы заглушить другие поразительные голоса случайности» (52).
Не менее важны и материальные условия письма. Предметность, подчас прозаичность письма Понжа следует видеть в контексте его материальных условий существования — все тексты украдены у сна, после 12-часового рабочего дня. Таким образом, фрагмент (арность) здесь не следствие борьбы с большими системами (Ницше VS Гегель), а продукт конкретной формы жизни, встроенной в производственный трудовой график.
«В силу социального положения, — а я занят почти двенадцать часов в день зарабатыванием на жизнь, — я не смог бы хорошо написать что-то другое: по вечерам в моем распоряжении остается приблизительно двадцать минут, пока меня не захватит сон» (22).
Отсюда проистекает потребность написать не хорошо или изящно, не мудро или исходя из логики того или иного поэтического сообщества, а четко и лаконично, соблюдая риторическую диету. Здесь нет времени на любование отражением, но только несколько минут, чтобы дать выход телу (как своему — так и окружающих «вещей»). «Сначала я очень рассчитывал на слова. До тех пор, пока мне не показалось, что скорее из их лакун рождается некое подобие тела. Вот его-то, признав, я и вынес на свет» (59).
Понж избегает любого трагизма и видит в загрязнении языка условие его утверждения — вне тоски по очищению и страсти возврата к чистоте «истока». «Речь идет не о том, чтобы вычистить авгиевы конюшни, а о том, чтобы расписать их фресками из навоза» (73). Нигилизм проводит за собой товарища-профанацию, силу принятия Спинозы и Ницше, и парадоксальность Сенеки: «так давайте высмеивать слова через катастрофу — просто злоупотребляя словами» (39). Отсюда же центральная установка: «ничего безнадежного. Ничего, что льстило бы человеческому мазохизму» (114).
Где здесь место человеку? На какой пьедестал поставить поэта, и какие очередные награды ему вручить? Всякая подобная чехарда для Понжа представляет собой то, что всегда промахивается: мимо тех моментов, которые отвоеваны у безропотного сна мысли, тоски и слабости.
«В общем, так: если у меня и есть тайный, подспудный замысел, то он, разумеется, не в том, чтобы описывать божью коровку, порей или столик на одной ножке. А прежде всего в том, чтобы не описывать человека.
Поскольку:
1) нам все уши прожужжали о нем;
2) и т.д. (то же самое до бесконечности)» (138).
И важно — не поддаваться соблазну замолчать.
«Следует ежесекундно очищаться от копоти слов и не забывать, что в этой системе ценностей тишина так же — по мере возможности — опасна.
Есть лишь один выход: говорить против слов» (с. 83)
Примечания
[1] Кротова Д. Понж среди вещей // Понж Ф. На стороне вещей. Пер. с фр., комм. и посл. — Д. Кротова. М.: ИТДК «Гнозис». 2000. С. 186.
[2] Кислов В. Предисловие переводчика // Понж Ф. Проэмы. Перевод с французского Валерия Кислова. СПб.: Jaromír Hladík press, 2019. С. 10-11.
[3] Понж Ф. Проэмы. С. 83. (Далее, когда цитируются «Проэмы», в скобках указываются страницы издания.)
[4] Камю А. Письмо Ф. Понжу по поводу На стороне вещей // Понж Ф. На стороне вещей. С. 178.
[5] Бланшо М. [О Франсисе Понже] // Понж Ф. На стороне вещей. С. 176.
[6] Сартр Ж.-П. Человек и вещи // Понж Ф. На стороне вещей. С. 172.
