Павел Арсеньев. Дейктическое письмо Эдуарда Лукоянова
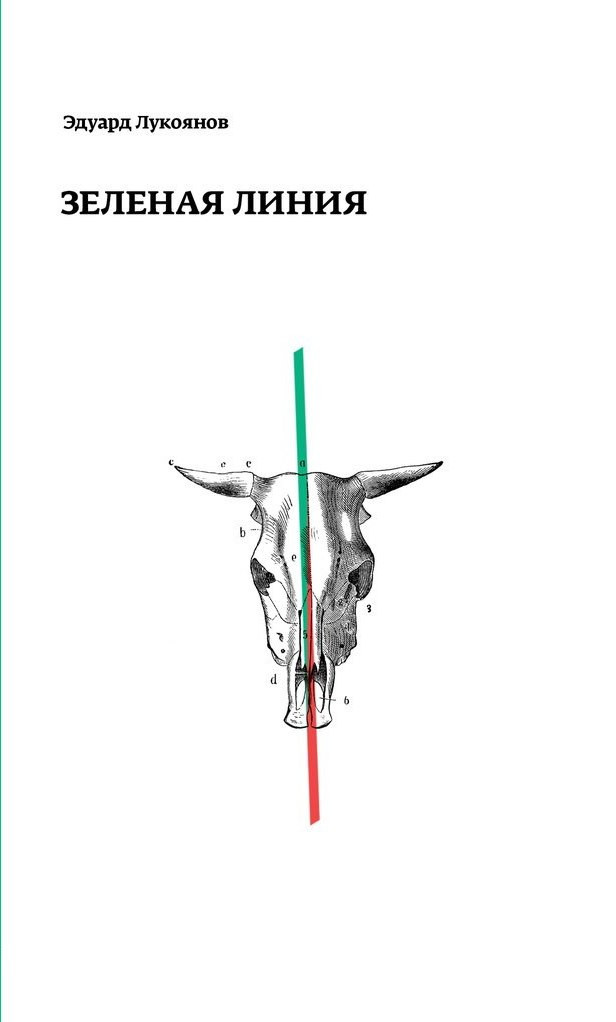
Внутренняя Африка Э. Лукоянова
Эдуард Лукоянов известен как молодой радикальный поэт, чья дебютная книга вышла в серии *kraft в 2013 году [1] и чье заявление о прекращении занятиями поэзией прозвучало всего парой лет позже. Архитектура Фейсбука не позволяет реконструировать точную дату этого заявления, но будь это заявление сделано даже сегодня, имеет место явное стремление не посрамить (своим длительным и навязчивым присутствием в литературном процессе) имени Артюра Рембо.
Лукоянов не отправился в Харрар. Его Африка всегда уже и так была с ним: как работник информационных агентств, специализирующихся на международных новостях, Лукоянов более чем хорошо осведомлен о всех колониальных конфликтах и сегодняшних уже постколониальных. Эти же многие знания (и многие печали) наполняют и его поэтические тексты: «самые некрещеные из конголезских женщин», «правительство республики Чад» и, конечно же, «Кения» [2]. Но речь здесь ни в коем случае не идет о романтизируемом гумилевском вояже в экзотические страны, скорее — о тех снарядах, которые разрываются прямо здесь, в нашей голове, с каждой прочитанной новостью с мировой капиталистической периферии. И поэтому рядом с сообщениями (и стихотворениями) с черного континента плодоносит и внутренняя Африка Эдуарда Лукоянова — Чечня, Приднестровье, Карабах, то есть продолжающаяся гражданская война на постсоветском пространстве.
Лукоянов — молодой человек, родившийся на самом излете советской эры и несущей в себе этот позднесоветский вирус (без
В этом контексте невозможно не упомянуть и одного старшего поэта левого толка, также объявлявшего об уходе из литературы десятилетием раньше и столь же трезвого визионера альтернативного советского прошлого, настоящего и будущего. Речь о Кирилле Медведеве, чьи последние тексты также остро реагируют на последние военные конфликты — на Украине («Просто нечего было делать…») и в Сирии («долой лицемерное миротворчество, говорят диванные аналитики…») [4]. В последнем из них проскакивает формула «Ливия это Сербия», претендующая очевидно на сквозную объяснительную логику в длящейся империалистической бойне. Но если у Медведева такое сравнение единично, то у Лукоянова метод неожиданных эквиваленций (или свободных политических ассоциаций) становится систематическим:
губная помада в магазинах «рив гош» это чечня растерзанная снарядами
зубная паста «колгейт» это приморские партизаны убивающие мента
чипсы «лейс» это коктейль молотова брошенный в рожу беркутовца
«сникерс» по цене три за два это ингушский мальчик скачивающий порно
скидка на крем для бритья это тренировочный лагерь для боевиков имарата кавказ
бразильские сериалы это полигон для испытания истребителей пятого поколения
голанские высоты это пачка жевательной резинки «стиморол»
сирия это гель для душа с ароматом жожоба
конго это отбеливающая зубная паста с повышенным содержанием фтора
сомали это мягко словно бархат
Видео Егора Севастьянова на текст Э. Лукоянова (конкурс видео-поэзии «Пятая нога» 2017)
Как видно, особые милитантные события находят свои произвольные эквиваленты в благополучной консьюмеристской повседневности, чтобы разорвать ее изнутри. Примечательно, что это не просто поэтический монтаж разнородных элементов (или, как здесь, атрибутов взаимоисключающих жизненных миров), навык которого сегодня приобретается каждым пользователем новостной ленты — но обретается бессознательно, то есть, без того, чтобы увидеть в подобном соседстве какой-то политический конфликт. В известном смысле мечта модернизма исполнилась, и наше внимание сегодня обучено оставаться расщепленным и избегать какого-либо антитетического синтеза в принципе. Лукоянов (вслед за приведенным примером из Медведева) совершает здесь принципиальную грамматическую (и диалектическую) трансформацию и дает те же элементы, которые еще недавно беспроблемно соседствовали на экране, через оператор предикации: это. И вот тогда с политическим сознанием (равно как и с рекламным посланием) начинаются необратимые изменения.
Можно было бы еще многое сказать о политике, остановиться поподробнее на критике медиа и тех манипуляциях с массовым сознанием, которые им принято приписывать, но, как нам представляется, тот медиум, к которому Лукоянов обращает свою политическую критику, один из наиболее древних и могущественных — не в пример пресловутым «новым медиа» — это язык. Ницше говорил, что пока мы все еще подчиняемся грамматике, мы не избавились от идеи бога. Лукоянов оказывается в этом отношении одним из самых неудобных еретиков. Далее мы попробуем рассмотреть несколько конкретных механизмов или даже машин, которые снаряжаются им против регулярного языкового разума.
Протокольные предложения
Как только мы принимаем подобную перспективу, мы начинаем видеть в этих текстах не только милитантные сводки, но и
Но если в приведенном примере дескрипция еще хранит память об обычном названии тех, кого скорее форсированно переопределяет поэтическое выражение, то в целом в поэзии Лукоянова очень часто мы имеем дело со случаями, когда определить свойства того, о чем идет речь, оказывается вообще невозможно без контекста высказывания: «от музыки такой / какая снилась самым безумным из нас» [6]. Формулировка отсылает к некоему имплицитному знанию «нас» (точнее, «наиболее безумных из нас»), которое должно указать и на свойство музыки, о которой идет речь. Точнее, с появлением подобных комплектов из указательного и относительного местоимения («такой, какая») речь уже не столько идет, сколько указывает. Причем, она столь же указывает за пределы самой себя (отличаясь от так называемых тавтологий), сколь и отказывает нам в
Чтобы предлагаемый нами анализ не показался чересчур насильственным по отношению к своему объекту, необходимо сразу сказать, что Лукоянов и сам в своих поэтических текстах не раз обнаруживает осведомленность и выказывает чувствительность к измерению чисто языковых парадоксов, критически затрудняет высказывание/повествование, начиная кружить над определенными лингвистическими конструкциями вроде следующей:
чешская речь в ущелье деепричастий змеиных
кто склонился разбирая то что сам создал зачем-то
тем-то и
(Из стихотворения «узор был деревянный»)
Здесь снова «тот, кого не/боюсь» лишается имени собственного (как это уже было с «теми, кто пытается разогнать» митингующих), определяется через все более туманные дескрипции, которые на ходу теряют свою способность вообще хоть что-то описывать (если есть «те-то» и «те-то», то какая между ними разница и какой смысл в их раздельном упоминании?). Одно из наиболее ранних и последовательных обращений к этому же опустошающему, но и настойчиво приближающему нас к внеязыковой реальности приему находим у Лукоянова в дебютной книге «Хочется какого-то культурного терроризма…» [7]:
Возлюбленный мой такой и такой, лучше десяти тысяч таких:
голова его — чистое такое; кудри его такие, такие, как тот;
глаза его — как те при тех, которые в том;
щеки его — то, то такое того; губы его — те, источают такую вот ту;
руки его — такие-то, с тем; живот его — как то из такого того, такое;
голени его — такие те, такие на таких тех; вид его подобен тому, такой, как то;
уста его — то, и весь он — такой.
(Из стихотворения «Возлюбленный мой такой и такой») [8]
Такой уже отчетливо идентифицированный самим автором прием, демонстрирующий скандальную способность языка заворачиваться в себя самого, его холостую работу, можно назвать поэтически акцентированным дейксисом или дейктическим письмом. Вместо каких-либо дескрипций и предикатов, попытки хоть как-то определить называемое, мы имеем только дейктические словечки, с одной стороны не имеющие никакого значения, кроме холостых языковых выражений, а с другой, настойчиво отсылающих куда-то за их пределы, как бы указывая на недостаточность языка перед лицом феномена, с которым сталкивается лирический герой. Однако, ригоризм и даже маниакальность, с которыми этот прием предъявляется в приведенном раннем стихотворении, сочетаются — и потому оказываются намного провокативнее — с глубокой укорененностью в культурной традиции, что, вероятно, уже заметил и читатель: приведенные строки можно назвать дейктическим переложением «Песни песней».
«Кения»: дейктическое письмо
Наконец наиболее поздним примером и наиболее объемной реализацией приема дейктического письма у Лукоянова можно назвать поэму «Кения» [9], которая была номинирована мною на Премию Драгомощенко в 2016 году, когда Лукоянов ее и получил вместе с преложением издать вторую книгу стихов, и на которой нам хотелось бы остановиться поподробнее.
Несмотря на то, что задачу поэмы «Кения» можно спутать с
Оказавшись зимой 1926 года в большевистской Москве, о которой он столько слышал, Вальтер Беньямин принимает за методическое правило «нежный эмпиризм» Гете: с одной стороны, только занятая заранее позиция по отношению к советской власти позволяет Беньямину быть зорким к фактуре, с другой стороны, эта подготовленная политическая оптика не должна превращаться в пресуппозицию. Такой гибкий эмпирико-трансцендентальный баланс, или «фактичность, ставшая теорией» позволяет проникаться материалом и вместе с тем воспринимать его предельно отстраненно и, если угодно, критически. Наследующей методу «Московского дневника» [11] можно назвать и поэму Лукоянова: невозможно не обратить внимание и на то, с каким «нежным эмпиризмом» она подходит к материалу [12].
В известном смысле этому помогает незнание местного языка — в его отсутствие становятся виднее вещи и отношения между ними, а не накладываемые на это социальные ожидания:
асфальт плавится
юноша тянет что-то наподобие арбы
груженой фруктами названий которых я не знаю
да и лень
от жары
от сухих мальчиков
встретил нищего
безумного
он сказал по-арабски:
подай на
или мне так показалось
подай на
уличный музыкант в зеленых сумерках этой широты
поет на суахили
я знаю только несколько
(слов — одно означает «хуй», другое — «здравствуйте»,
третье — «русский»)
В известном смысле реализму вообще идет на пользу не слишком искусное владение языком. Именно этот тип культурного капитала, как известно, является ставкой одной из самых, возможно, нарциссических инвектив орнаментальной литературы по адресу реалистической прозы, и именно ей посвящен доклад героя поэмы: «набоков и чернышевский: краткий очерк о стилистике романа “дар”. В пределе в ситуации (культурно вмененного) безъязычия говорящий может только использовать простейшие семиотические процедуры остенсивного указания — «вот это». К слову, по мысли Беньямина, адамический язык должен передавать состояние мира, не медиализируя его (и тем самым рискуя отчуждением своей и человеческой природы), но только совпадая с ним, как это и имеет место в случае такого индексального или дейктического письма.
Впрочем, интерлокутивная ситуация поэмы оказывается сложнее, так как то, к чему обращено указание лирического героя, обладает не вполне стабильным существованием: оно присутствует в пространстве дейксиса говорящего, но систематически отсутствует в пространстве, к которому он адресуется или, по меньшей мере, отсылает в своих словах: «такого горячего бетона в россии нет», «таких желтых футболок в россии нет».
Лирический герой поэмы не находит нужных слов для описания ситуации, ему не удается по достоинству предицировать исключительность и интенсивность видимого, и поэтому он определяет его апофатически. Он убежден в ее самоценной экземплярности и (потому?) в известной степени непереводимости — если не на русский язык, то на русские культурные, и, как вскоре становится понятно, политические реалии. Каждая строфа поэмы заканчивается унифицированной констататцией вида «такого х в россии нет».
Однако если сперва следует, как было отмечено, чисто сенсорный дейксис, как бы различающий только простейшие тепловые и цветовые качества (qualia), а не объекты («такого горячего бетона в россии нет», «таких желтых футболок в россии нет» — первые два фрагмента), то вскоре оптика осваивается с единичными объектами, встречающимися взгляду («таких мух в россии нет», «таких собак в россии нет»), или касающимися тела говорящего («таких трусов в россии нет», «настолько отбеленных простыней в россии нет», «такой слюны в россии нет»). Принцип «что ближе к телу» постепенно начинает распространяться на объекты потребления («такого крепкого в россии нет») и, как следствие, соматические ощущения других, на эмпатию которых все более приходящий в чувства субъект оказывается способен («такой голод какого в россии нет»), пока не добирается до высшей нервной деятельности и сложных коммуникативных феноменов («такая лень какой в россии нет», «такого смеха в россии нет»). Там, где есть другой и коммуникация, уже нельзя не заметить социального («таких дел в россии нет», «такой бедности в россии нет»), если соматические ощущения (голода) вообще отделимы от социального (бедность). Наконец, сполна ощутив масштаб социального разрыва, субъект проникается подозрением к политике репрезентации («я смотрю на кенийский флаг повисший над госучреждением / думаю о щите изображенном на нем / таких щитов в россии нет») и — от этого — к гедерной политике идентичностей («потому что таких правительств и девушек в россии нет»). В конце концов дейктический нигилизм героя поэмы приходит к явно разрушающим всякую национальную мифологию утверждениям (или, точнее, заходится в них): «таких набоковых и чернышевских в россии нет» в предпоследней строфе.
Впрочем, в этом романе воспитания феноменологического субъекта и металитературные высказывания не являются пределом. Наиболее примечательной констатацией отсутствия оказывается на первый взгляд вполне незначительное «у меня внучка там погибла / у меня погибла внучка у меня / такая какой в россии нет». В ряду всех перечисленных выше эпизодов негативной политической феноменологии этот пример является не только самоочевидным (разумеется, если внучка погибла, то ее нет — причем, не только «в россии»), но и самым скандальным: в нем язык заворачивается сам в себя. Это уже не просто отрицание достижений национальной литературы («таких набоковых и чернышевских в россии нет»), но отрицание самой возможности языка отсылать к объекту, демонстрация его холостого хода. Неудивительно, что в этом аграмматическом примере речь идет об опыте умирания, который, как известно, может быть только личным, не может быть вы- и
Остается добавить, что такая радикальная модификация реалистической тенденции в литературе, как дейтическое письмо, соотносится не только и не столько с историей русской литературы, но имеет и отчетливые координаты в нынешней литературной ситуации и выступает в качестве критики «эксплуататорского» подхода к факту в концептуализме, и одновременно открывает горизонт формулировки левой документально-поэтической контр-стратегии.
Сноски:
1. Э. Лукоянов. Хочется какого-то культурного терроризма и желательно прямо сейчас. Петербург: *kraft (Серия [Транслит] и Свободного Марксистского Издательства), 2013.
2. Названия и фрагменты из текстов, опубликованных в этой книге.
3. Начиная с перестройки, принято говорить о лицемерии риторики о «мире во всем мире», и все же пока на стенах домов и транспарантах фигурировали формулы равенства и братства наций, об убийствах дворников из Центральной Азии было не слышно (как и о самом социальном расизме такой специализации). Тогда же, когда «лицемерная риторика интернационализма» была преодолена и на сегодняшних стенах и транспарантах фигурируют откровения «капиталистического реализма», национальный вопрос снова стал одним из самых политически острых. Это связано с природой языкового присутствия в повседневности: если мы каждый день видим слова, в которые даже не особенно верим, они становятся основой дискурсивного бессознательного и определяют наше социальное и языковое поведение.
4. К. Медведев. Подборка из #17 [Транслит]: Литературный позитивизм, 2017. С. 114-115.
5. «уже второй день…»
6. «грядущие поколения вы будете тащиться…»
7. См. первую сноску.
8. Э. Лукоянов. Указ. соч. С. 24.
9. Э. Лукоянов. Кения (поэма) // #17 [Транслит]: Литературный позитивизм. Литературно-теоретический журнал. 2015. С 78-82.
10. Согласно уже высказывавшейся в нашем предисловии к #17 [Транслит]: Литературный позитивизм гипотезе, как в истории русской литературы (начиная с «натуральной школы» Белинского, через эксперименты «литературы факта» и чрезвычайный опыт письма В. Шаламова), так и в современной экспериментальной литературе можно проследить тенденцию «литературного позитивизма». Это устремленное к пределам рациональности изящной словесности движение — от славянофильской этнографии до сциентистского духа городских «физиологий», от американских «объективистов» до производственников, декларирующих «борьбу реального факта с вымыслом» — делает ставку на
11. Беньямин, В. Московский дневник. — Москва: «Ад Маргинем Пресс», 1997. — 224 с. — (Философия по краям).
12. См. следующие отрывки:
кофе здесь подают в исключительно маленьких чашках
не больше наперстка
даже прохладный ветер на террасе кажется жарким
от случайных прикосновений официанта
только окончившего христианскую школу
<…>
мальчик в зеленых шортах
с голым торсом
плюнул мне под ноги
его густая слюна разбилась о каемку моего кеда
Читайте этот текст также на сайте [Транслит]
