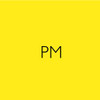Детство/отрочество/детство, или Хождение около ноля
0-0
<…> И, когда мы говорим про границы одного периода, другого периода, одной истории, другой истории, мне кажется важно, что мы все время еще сталкиваемся с тем, что из

Это я ловко перескочил с чтения номера «Неприкосновенного запаса» про звук на чтение более старого выпуска, в котором есть раздел про Горький/Нижний Новгород — в том числе стенограмма дискуссии, состоявшейся в стенах здания ДК ГАЗ. Этот дом начали строить при Сталине, а закончили при Хрущёве; процесс занял тридцать лет, правила игры в архитектуре и политике оказались с тех пор перевёрнутыми на 180. Но всё же этому зданию — раз уж оно оказалось достроенным и сданным — суждено было вписаться в городской ландшафт, а урбанистам полвека спустя выпал удел обсуждать на его примере потерянность во времени, невозможность настоящего, потому что кругом лишь руины прошлого, оно же — несостоявшееся будущее.
***
Место фишеровского кислотного коммунизма — то есть континуума, который когда-то был трагически прерван и оттого нуждающийся в возобновлении — в российской адаптации, похоже, займут нулевые. Их придётся перепрожить в той ситуации, когда очертания настоящего не ясны — зато есть иллюзия, что недавнее прошлое удастся очистить от скверны. В надежде на это по-другому смотришь на искусственное воскрешение призраков, происходившее последние пару лет в книгоиздании: сначала вдруг переиздают «Музпросвет», потом выпускают в красивой обёртке и старой сути «Эзотерическое подполье Британии», а под конец выходят в свет отсутствовавшие в русских переводах книги Рейнольдса и того же Фишера. Все они должны были быть изучены и переварены лет 10-20 назад — но только теперь, будучи ностальгической литературой для книжного развала посреди развала всеобщего, эти тексты начинают доносить своё сообщение. Вместе с ощущением, что было время — даже, может быть, мерзенькое — воскресает и надежда, что всё ещё будет. Вспять, но по новой.
***
10-15
Мне всегда были ненавистны двухтысячные — они ощущались именно нулевыми, нулёвыми. В моём городе (не самом захолустном, 140 тысяч жителей) до конца десятилетия отсутствовал скоростной интернет; осложнялось дело нулевыми социальными навыками: всё, что оставалось человеку, настроенному на внутреннюю борьбу за прекрасное против всего уродливого, но зайти за красную линию не способному — это упорно не сдаваться в плен тошнотворной поп-культуре.
Разумеется, всё переменила детская травма (физическая: свернул шею, лежал в травмпункте). Случилось это накануне моего десятилетия, в день открытия Чемпионата мира по футболу. Ход соревнования я благополучно пропустил — в палате не оказалось болельщиков, зато был человек с радиоприёмником, мой тёзка. А может и нет: я тогда перестал дружить с ещё одним своим тёзкой и последний раз звонил тому именно из больницы — память вполне могла слить две знаковые личности в одну. Так вот, приёмник был настроен на «Наше радио», благодаря чему дважды (с повтором в субботу) был прослушан хит-парад «Чартова дюжина»: дуэт «Ундервуд» призывал следить за её левой рукой (oh my!), Найк Борзов перепевал «Марию Мирабеллу» — а Земфира пела про знак бесконечность. Под эту песню жгучее закатное солнце касалось крыш соседних корпусов; я, конечно, для наглядности добавлю к этому посту поделку режиссёра Вилкса — но сам ни разу её не видел, ведь «закат разноцветнее видеоклипа», как справедливо заметил однажды Б. Усов.
Все синглы с альбома «Четырнадцать недель тишины» я выучил наизусть — хоть и слышал их только по радио. Лишь спустя пять лет у меня появится потребность самому покупать кассеты, а ещё я впервые с описываемых пор включу «Наше» — на удачу, тот рассветный эфир был украшен двумя песнями «Мумий Тролля» и «АукцЫона», шедшими чуть ли не подряд; редкий фортель, тем более по посткозыревским временам. Дело было в августе 2007 года, поэтому сентябрь так и не погорел: «АукцЫон» ранний сменился на «АукцЫон» поздний; интерес к рокапопсу сменился интересом к рецензиям Горбачёва и Семеляка; сразу после этого два класса в нашем потоке объединили в один, и дружественный когда-то коллектив превратился в невесть что. А музыка — в способ побега.
15-25
Десять лет я закапывался в музыку — не в теорию, не в книги, но в (само)ощущение от звука и пространства: в 18 девятиэтажки звучали как демка проекта Романа Сидорова Sedativ; в 20 я находил Вконтакте какие-то мелкотусовочные русские ансамбли, многие из которых уже мертвы, но названия до сих пор то и дело всплывают в голове (спасибо, Паш, теперь видно!); к двадцати трём я перестал быть похожим на протодумера, завёл телеграм-канал о музыке и начал казаться куда умнее, чем я есть; свершилось ли что-то выдающееся за это время, не особо понятно. «Годы прошли, и я тут» — всё ещё задаюсь вопросом, почему я из такого сора состоял, почему обрывки слабо тянут на вменяемую археологию воспоминаний.
При взгляде на плейлист русских песен-зацепок, который сам собой составился по итогам четверти века слушания, сам же собой напрашивается вывод, чего именно не хватает. Тринадцать мужчин и одна женщина, плюс незримый образ матери, умершей, когда мне было как раз 15; ни одной песни Свиридовой или Ветлицкой, хотя кассета последней была исслушана мамой — а в однокомнатной квартире это значит и всеми присутствующими — вдоль и поперёк. Спустя полтора десятка лет после её похорон я недоумеваю, почему меня в первые дни утешал альбом «Заноза» Найка Борзова, а не песни (допустим) Нины Симон, Кейт Буш или кого угодно, чьи голоса подбодрили бы сейчас. Игнорирование смерти переросло в игнорирование феминности — а проживание утраты подменилось откладыванием разговора на потом. Грусть белого цисгендерного мужчины ниоткуда выходит и никуда не ведёт, решаю для себя — впрочем, и этот стоивший десятилетия вывод тоже сомнителен.
Эти песни многое расскажут о том, что я переживал внутри себя добрую половину жизни: какие-то — названиями, какие-то — текстом, какие-то — общей способностью вписаться в какой угодно список кораблей Меланхолии. Что-то из этого так и осталось just a dream, в смысле лишь мыслями, прожитыми в полудрёме — но от этого не стало весить меньше.
Потому что в первом классе мне сказали, что меньше ноля ничего не может быть.