Чужие среди чужих: о несвоевременном искусстве
С началом войны для многих стали видимыми гонения на работни_ц культуры: за политическую позицию, за желание или нежелание творить, за отказ или, напротив, стремление ответить на вызов времени. Ответить на вызов времени и, тем самым, выполнить свою миссию — стать такой культурой, которая будет современной не только по названию, но и за счет своей актуальности и злободневности.
Но в такой культуре искусству со свойственными ему сомнениями и поисками попросту не суждено было бы сбыться. Оно существует только благодаря постоянным поломкам и мимикрии, в чем проявляется его недостаток: человеческое слишком человечно, и искусство не способно сказать или сделать больше, чем готовы сказать и сделать его создатель_ницы: добрые и злые, ответственные и поверхностные, пассионарии и обитатели чулана, — говорящие в разных регистрах,
Коля Нахшунов поговорил с постконцептуальной художницей Антониной Баевер (Дженда Флюид) о феномене гонений на современное искусство — неприятии современности и попытках ее политического исключения из культуры в принципе. Разговор получился критическим, порой — пессимистическим, — что, впрочем, объяснимо. Основной сюжет интервью — радикальная непринадлежность, отказ от использования конвенциональной речи как медиума иерархической власти и неприятие сопричастности этой власти в лице репрессивных институциональных структур.
Текст будет интересным как тем, кто хочет понять противоречия российской индустрии современного искусства, так и тем, кто готов встретиться со старыми именами в новом контексте.
Время чтения — 15 минут

В поисках сейфспейса: современное искусство во время войны
Коля: Тот глянцево-стерильный арт-мир, который нам рисуют в
Дженда Флюид: Не, конечно нет, этот «мир» никогда не был сейфспейсом, тем более что понятие сейфспейса очень растяжимое и индивидуальное. Безусловно, он всегда был эксклюзивным, какими бы светлыми ни были устремления прогрессивного дискурса; я не верю в инклюзию искусства: вся эта индустрия держится на эксклюзивности, приобщиться к которой можно двумя способами — либо через деньги (и этот способ — самый легкий: нужно всего лишь иметь материальные средства), либо мозгами — это то самое, что делаем мы, интеллектуально вовлекаясь в искусство. Этот способ сложнее, отнимает много времени, у профессионалов, соответственно, отнимает много жизн/ей, но зато в качестве бонуса ты получаешь возможность иногда достигать… назову это громко — интеллектуальный экстаз, который не купишь ни за какие деньги. То есть — если потише, — возможность что-то понять об искусстве.
Причем, проблема не в том, что среда никого не пускает; просто не то что бы все туда хотят попасть — на это у людей нет ни денег, ни времени. Такие вот неуловимые эксклюзивные мстители, этот «мир».
Про его удобность, — то же самое, — и да, и нет, смотря для кого и в какой момент. Должен ли он быть удобной для всех per se? Не знаю. Не уверен. Не должен. Мне кажется, никакой пабликспейс не может быть сейв, и это нормально — элементарный человеческий фактор.
Коля: Мне кажется, это объясняется даже не столько в понятиях «данности», сколько — неизбежности. Мы брошены находиться во всем этом, и можем только констатировать его несовершенство в тех моментах, которые связаны с человеческим, «жизненным» фактором. Тем не менее, проблемы, о которых ты говоришь, — они являются общими для людей и институций, они делают возможным разговор об
Дженда Флюид: Это очень хороший вопрос, ответ на который я продолжаю осознавать, наверное, до сих пор.
Первые цензурные шаги осуществлялись на местах, и это была самоцензура, такая типа «на всякий случай, от греха подальше» — и вот это вот все потихоньку распространялось на всех — чувствовалось, как страх пронизывает политику институций, поэтому все неудобное, неугодное, неблагонадежное, неправославное стали потихоньку выметать.
Ну, во-первых, «деполитизация» искусства происходила постепенно по мере того, как укреплялся и ужесточался российский режим. Деполитизация в кавычках — потому что не бывает современного искусства вне политики — это казалось мне такой очевидностью, которую не надо даже обсуждать в рамках профессионального общения. В общем, «деполитизационные зачистки» в институциональной сфере стали сильно ощущаться после 2014-го, но многое было все еще возможно. По двум причинам: прежде всего, первые цензурные шаги осуществлялись на местах, и это была самоцензура, такая типа «на всякий случай, от греха подальше» — и вот это вот все потихоньку распространялось на всех — чувствовалось, как страх пронизывает политику институций, поэтому все неудобное, неугодное, неблагонадежное, неправославное стали потихоньку выметать. Я помню, как мой друг, художник Дима Федоров, в музее Свибловой (примечание — Мультимедиа Арт Музей, «пожизненной» директоркой которого является Ольга Свиблова) во время вечера вернисажей проехался в лифте голый — это был то ли 2014, то ли 2015. Такой вроде бы совсем безобидный жест. Но у страха глаза велики, особенно если это глаза Ольги Львовны, которая знала, что Дима — открытый гей и эпатажный автор, — она буквально вскипела, запретила всем снимать, заставляла журналистов удалять материалы с камер прямо там при ней, а потом ее сотрудники писали всем, кто успел что-то выложить в инстаграм, чтобы это немедленно удалили. Как-то так, вполне себе тоталитарненько все и происходило, от головы к хвосту — шестеренки крутятся, часики тикают, и чтобы никаких сюрпризов в механизме. А художники, как известно, полны сюрпризов. Художник разделся, и реакция на это такая, как будто он вооружен и очень опасен. А потом Дима Федоров в декабре 2021-го повесился, чтобы глаза его всего этого больше не видели.

Но тем не менее, все еще многое было возможно — потому что в принципе за современное искусство взялись всерьез практически в последнюю очередь — потому что оно нах** никому не нужно. Хорошо, если не у Свибловой, то в том же ММСИ (примечание — Московский музей современного искусства) в 2015 я показывала выставку «Золотые слова» — это было высказывание про агрессию под разными углами: эстетика общественных пространств, типа стена подъезда, вырванная из контекста и ставшая модернистским объектом, агрессивное желание быть свободным, но было и довольно очевидное, очень прямое по моим тогдашним меркам высказывание на тему российской армии и растущего вокруг пи***ца, — просто конкретно этот видос крутился за занавесочкой. Сейчас же это себе представить сложно, правда ведь? Да и тогда уже было нелегко: не было это прям так, что вот я иду и рассказываю им [институции] все, что у меня на душе лежит. Нет, это всегда была игра, всегда был момент такой невидимой политической борьбы. Куратором той выставки был мой друг художник Рома Минаев, и вот сейфспейс был только когда мы с ним обсуждали всю ситуацию тет-а-тет. Потому что мы друг друга понимаем, и цели у нас совпадают. Все, что выходит за рамки этого приватного разговора — это политика и неудобства, которые надо преодолевать. Опять же — пока есть такая возможность. После 24 февраля, как известно, такой возможности не стало: ты либо обслуживаешь режим, либо не обслуживаешь. Никаких переговоров с институциями в условиях неототалитаризма не подразумевается. Никаких сюрпризов быть не должно. Соответственно, контент после 24-го варьировался только между открыто правым, патриотического толка, и
Была у меня наивная вера в то, что нас объединяет какой-то общий вектор, который, если очень грубо и просто описать — ну просто сопротивляется патриархату со всеми его ужасами типа гомофобии, войн, расизма… В итоге оказалось, что однородность среды совсем не в этом, а вкакой-то , простите, рабской стадной покорности из серии «я просто выполнял приказ».
В общем, конечно, среда не может и не должна быть однородной — в этом и смысл: нужны разные институции, разные люди, — все художники разные по определению. Но
Коля: Пошутишь?
Дженда Флюид: Конечно! Как я уже говорила, каждый раз была невидимая борьба, и мне это нравилось в
И в этом смысле с одиозной галереей «Триумф» было когда-то во многом удобнее и приятнее работать, чем с музеями.
С «Триумфом» я сделала два больших кураторских проекта в параллельной программе Молодежной биеннале (примечание — Московская международная биеннале молодого искусства) — в 2014-м и в 2016-м. В 2014-м проект назывался «Москва. Барокко. 2014» и он был прямой реакцией на происходящие политические события, и про неуместность эстетики силы, и про вырождение жанра, и про связь исторического барокко с политикой, и так далее, но все это тонкости. Многие видели просто «жирную выставку в бывшем особняке Логоваза», и мне это тоже нравилось. Хотя готовилась выставка в течение полугода для флигеля «Руина» Щусевского музея (примечание — Музей архитектуры имени Алексея Щусева), но за две недели перед открытием ее тогдашняя директриса попросила взятку наличными, и мы перенесли выставку в особняк Логоваза. То есть вот, пожалуйста, взаимодействие с чиновниками всегда было в большинстве своем наглухо отбитым. А в 2016-м я решила поставить точку в моих отношениях с Московской молодежной биеннале — единственной в мире биеннале, где возраст художника является критерием отбора, и на деньги «Триумфа» сделала «Свежую кровь», где квинтэссенция молодости в виде толпы молодых рейверов была встречена многими профессионалами опять же скептически — мне это, конечно, тоже нравилось. Критику молодежной биеннале разглядела тогда чуть ли ни единственная Маша Кравцова (примечание — Мария Кравцова, главный редактор интернет-ресурса «Артгид»). Но помимо этого там было и про наркотики, и про Крым, и про потерянную молодежь, и это был, наверное, мой самый большой незацензуренный проект. Но о чем это я, да. О том, что безусловно постепенно цензура проникала везде, и это влияло, ее обход на всех этапах взаимодействия с институциями был частью моей работы. Существовать в таком измерении современного искусства было познавательно и утомительно. Я ни о чем не жалею, но как же круто, что это закончилось.
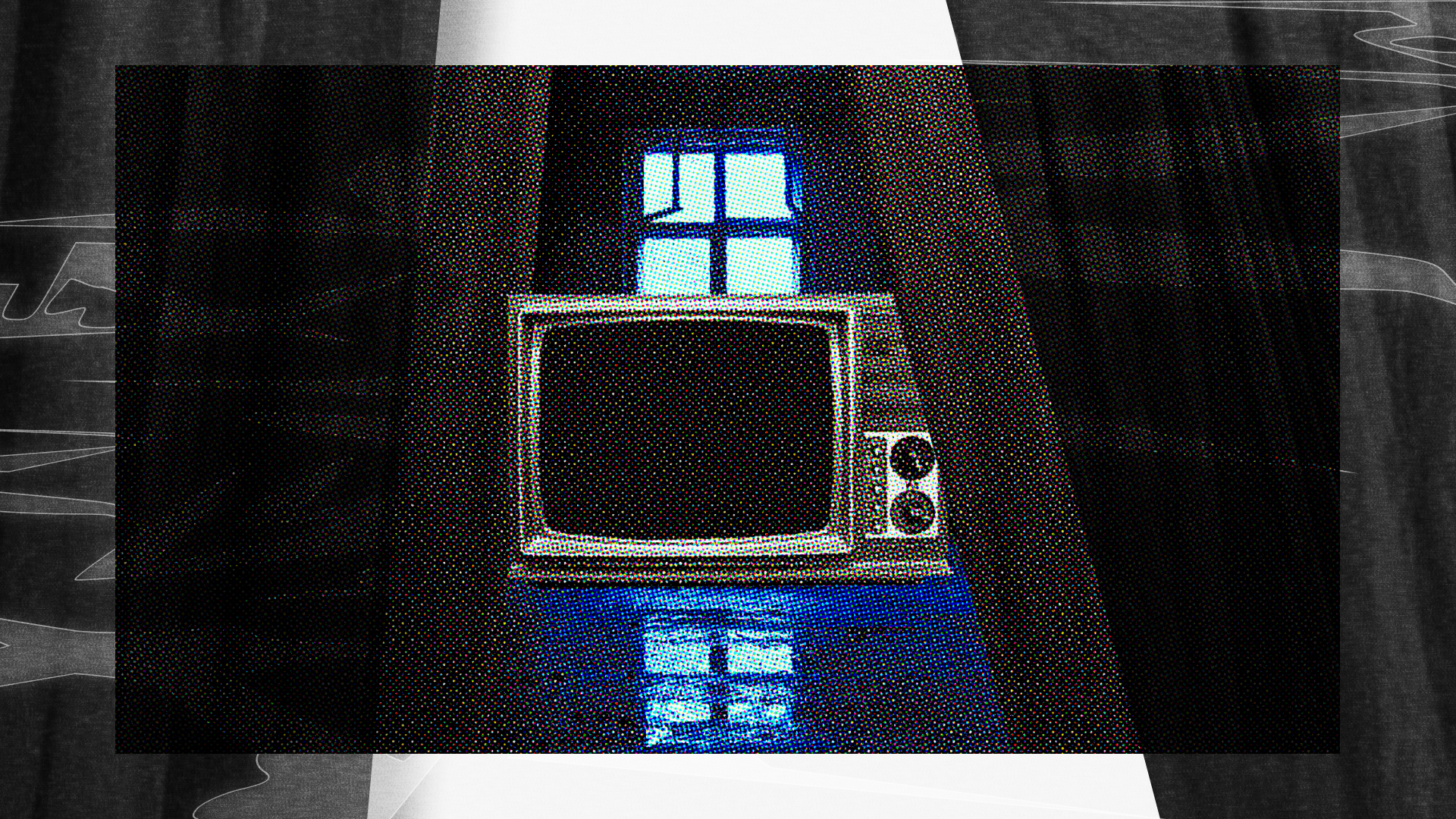
Коля: Мне еще кажется, что усталость, утомленность, желание исхода — это издержка подрывного потенциала любого такого действия, интеллектуальной провокации, ясного и четкого говорения на уровне современного искусства, которое, как бы ни была понятна речь, не все могут различить
Дженда Флюид: Я думаю, институция не может быть искренней. Искренность — это
Коля: Институции не люди…
Дженда Флюид: Искренние люди есть, я знаю тех, например, которые уволились из институций, причем как тихо уволились, так и публично, аргументируя свой шаг — например, Никита Рассказов очень четко написал, почему увольняется из ГЭС-2.
Примеры институционального двуличия можно перечислять сколько угодно, этим никого не удивишь. Зато меня искренне поразили примеры кураторского и художнического двуличия, знаешь, разочаровали многие, но не те, от которых и так не ждешь ничего хорошего — типа там Алиса Прудникова, например: ну, она уже в 2021 сотрудничала с государственным цирком, который был основной площадкой Уральской биеннале (очень, б**ть, прогрессивно), конечно, и теперь ее назначают программным директором ГЭС-2, — она к этому упорно шла. Такие люди нужны режиму: она с удовольствием будет руководить подразделением гестапо со своей гримасой радости на лице. Разочаровали по-настоящему те, с которыми когда-то у нас был приватный интеллектуальный сейфспейс, те, с которыми были общие цели и понимание. Неудивительно, конечно, что такая катастрофа как война сорвала столько масок, но до того дошло, что в отношении некоторых людей я бы предпочла блаженное неведение. Слишком много трудноперевариваемой информации в мою голову, прям до рвоты.
«Чистый помысел», или любовь к радостным маскам
Дженда Флюид: Искусство не может быть вне политики, тому есть конкретные весомые причины — Первая и Вторая мировые войны со всеми вытекающими. Все на свете политизировано — наши тела, наша одежда, наша еда, вообще все. Заметили, что больше всех «вне политики» всегда правые и ультраправые? Вот Церетели (примечание — Зураб Церетели, основатель Московского музея современного искусства), например. Вооруженное вторжение России в Грузию? Зураб Константинович вне политики. Медаль от президента РФ? Зураб Константинович вне политики. Музей в Москве, музей в Тбилиси. И все это вне политики! Просто чудесно. «Вне политики» всегда с ним в одной комнате находится. А теперь и с некоторыми моими бывшими коллегами.
Коля: Знаешь, находясь «вне политики», они закрываются от «простых смертных» как раз в очень удобное пространство, очень привилегированное, «полюбовное», но все же для своих. Но ведь много тех, кто изгнан из этого мирка, или тех, кто противостоит ему, создает и защищает то актуальное, резкое и неудобное искусство, которое нас объединяет. Сейчас, особенно в последние месяцы, мы видим гонение, попытки пресечь такое настоящее современное искусство. Как давно они начались?
Дженда Флюид: Нет, попытки пресечь современность в искусстве были до начала полномасштабной войны. В условиях неототалитаризма никакого современного искусства быть не может (я про институциональное опять же, стрит-арт, конечно, теплится еще, может ряд других независимых и не самых видимых практик), а любой, кто занимается каким-то заметным активизмом и сопротивлением, естественным образом подвергается такой опасности. Например, Скочиленко сидит не потому что на искусство гонения вдруг начались, Скочиленко сидит потому что этот режим фашистский и кровавый, но проговаривать это опасно, по этой же самой причине. А гонения сейчас уже на всех подряд, ну это же тоже очевидно было, что так будет, а как можно на
Коля: Наивный вопрос, но я задам его. Насколько современное искусство опасно для текущего российского режима и диктатуры в принципе?
Никакое искусство для этого режима уже не опасно, это время прошло. <…> Ну насколько независимое современное искусство опасно для режима КНДР?
Дженда Флюид: Да никакое искусство для этого режима уже не опасно, это время прошло. Понятно, что каждый, наверное, делает что может в меру сил, но время когда искусство могло оказаться в публичном поле и на
Коля: Окей, вернемся к гонениям. Получается, что личность современно_й художни_цы — это жертвенная личность? Или все же героическая?
Дженда Флюид: Героизм и жертвенность — это какие-то эксцессы. Ну, сейчас сидит много народу, не только художники, ну и
То, что произошло с Сашей Скочиленко, ну очень напоминает историю Клод Каун и Марсель Мур, причем это такая не искусственная, за уши притянутая параллель, а очень искренняя — и те, и другие по-своему осуществляли свою борьбу с ужасом, который ты не можешь игнорировать. Ну и здесь мы говорим о случаях
Мне вообще эти понятия — героизм и жертвенность — не близки, ни в качестве маркетинговой стратегии, ни в качестве жизненного кредо. Героизм как-то уж слишком тесно связан с патриотизмом, что, в свою очередь, я считаю тупиковой концепцией, а я не фанат тупиков. Жертвенность вообще предпочитаю оставлять Иисусу Христу и верующим, это такой же тупик, тем более для человека с интеллектом. Короче говоря, если мы говорим про действительно современные арт-практики, то всегда хотелось просто быть умеренным профессионалом, просто элементарно работать. Вот Цветкову мурыжили несколько лет, в итоге ей удалось вырваться, и это называется большой удачей — это дикость, бл**ь. Человек занимался художественно-просветительской деятельностью в богом забытом Комсомольске-на-Амуре, который вообще никому не сдался в этом мире, кроме нее. И что вместо «спасибо»? Изнурительный судебный процесс, который просто деморализует. Кому нужна эта жертвенность, этот героизм? Знаешь, видос в пабликах где-то ходит, из серии no context russia, но недавнее видео, там типа лежит бабушка на улице, упала по ходу, плохо ей стало, ее переезжает у**ан на джипе, потом заднего дает, переезжает еще раз, ну и с****вает, стало быть в третий раз по газам и по бабушке. И вот что, эта бабушка, она герой или жертва? Она главная героиня этого видео и жертва этой реальности, — вот такой вот портрет современной России. Ну и кому это нужно? Это же полный п****ц. Я кстати видео не смотрела сама, мне друг три раза пересказывал, и мне хватило. И с тюрьмой такая же фигня.
Так что жертвенность и героизм в профессиональном плане нужны, пожалуй, только акционистам, они умеют их готовить — Мавроматти, Pussy Riot, Павленский (примечание — представитель_ницы арт-акционизма). И только Бренеру (примечание — художник, один из лидеров московского акционизма) по-настоящему удавалась самоирония. Ну, кстати, в
Коля: Но есть же более явные подступы к коммерческому успеху. И большинство, как показывает опыт, забивает и идет получать гранты от государства, идти на сделки с совестью и закрывать глаза на тотально выгнившую репутацию большинства российских институций.
Это либо циничное двуличие, в чем я сомневаюсь, либо запредельная тупость, — есть ощущение, что второе ближе к истине, и вот такой уровень идиотизма в моем идеальном мире — это художественная профнепригодность. А в этом мире по большому счету всем по**й.
Дженда Флюид: По поводу совести — не знаю, я морализаторством заниматься не хочу, каждый как-то с собой договаривается. У меня, я точно знаю, есть какие-то пределы, какие-то линии, и я с самим собой не смогу договориться, чтобы их перейти. Но кто как договаривается с собой — это загадка природы. Из недавнего, из свеженького — поразила Мика Плутицкая (примечание — российская художница), причем с начала войны она успела совершить полный круг поражений: сначала я был приятно удивлен сознательности коллеги, которая работает с живописью. Прозвучит по-снобски, но у меня действительно снобское отношение к живописцам — это художники, изначально коррумпированные самым традиционным медиа, которое, к слову, совершенно случайно лучше всего продается. Ничего не имею против денег, но к живописцам всегда есть вопросы, хотя понятно, что везде есть исключения. Так вот, я помню, Мика была у меня в информационном поле, потому что в начале войны я активно пользовалась соцсетями, короче говоря, Плутицкая писала о том, как она нереально травмирована всем происходящим, и жить трудно, и дышать не можется, уехала сначала в Ереван в никуда, потом оттуда поступила в академию в Ляйпциг, ну вроде нормальные движения, да? А потом вдруг взяла на***рила СТО акварелек на выставку в ГЭС-2 про русский фольклор. Вдохновение проснулось видимо, тепленькая пошла? Вот это как понимать вообще? Это либо циничное двуличие, в чем я сомневаюсь, либо запредельная тупость, — есть ощущение, что второе ближе к истине, и вот такой уровень идиотизма в моем идеальном мире — это художественная профнепригодность. А в этом мире по большому счету всем по**й.
«Если я кому-то не нравлюсь, то хочу не нравиться еще как можно больше»
Коля: Когда тебе становится мерзко, и ты отказываешься от художественного высказывания как дачи показаний тем, кому гораздо важнее процесс говорения, а не содержание, так как этот процесс легитимирует сложившуюся нормальность в духе «а что случилось». Будет ли молчание таким высказыванием, ускользающим от логоса «официального» современного искусства, не подчиняющегося ему?
Дженда Флюид: Безусловно, отказ от создания искусства — это тоже высказывание. Не всем доступно активное сопротивление — у меня, например, тоже нет для этого ни сил, ни смелости, ничего вообще. Повторить подвиг Скочиленко, я, например, не смогла бы, во мне вообще ни капли геройства нет, как я уже сказала. Но у всех разные обстоятельства, разные «дано». У меня есть друзья, которые остались в России, и никакого искусства они не производят, потому что это просто невозможно. Я не в России, но тоже не могу сказать, что у меня производство какое-то бурлит, но кроме искусства я ничего не знаю, не умею и не хочу. Происходят внутренние трансформации, которые, конечно, не могут не отразиться на практике. Я просто люблю думать, а искусство всегда подкидывает катализаторы в мыслительный процесс. Все остальное — это побочки.

Коля: Могло бы такое активное молчание стать общей стратегией? Казалось бы, то немногое общее, что есть у нас всех как разных людей с разными позициями, — это именно нежелание говорить, вступать в разговор, который нам навязывают.
Дженда Флюид: Общей стратегии никакой нет, нет даже никакого бойкота: людей убивают — институции продолжают работать; людей сажают — институции продолжают работать; журналистов, поэтов, художников пытают, допрашивают, избивают, преследуют — институции продолжают работать. Я думаю, очевидно неуместны выставки из серии «мы хорошие русские» за рубежом. Такое же днище, как в России сейчас выставляться в институциях.
Коля: И те, и другие, — они виноваты в этом? Или, больше, здесь уместно заговорить о коллективной ответственности современного искусства?
Моя практика уже никогда не будет прежней; это просто невозможно. Я просто не вижу ни смысла, ни какой бы то ни было возможности делать что-то как прежде. Потому что «как прежде» уже нет и больше никогда не будет.
Дженда Флюид: Ой, я не знаю, наверное, каждый сам для себя решает, что к ним применимо, а что нет. Я только за себя могу говорить. И коллективную вину я лично не чувствую, потому что не чувствую коллектива: про себя я знаю, где мы были восемь лет, и десять, и пятнадцать, меня сложно сбить с толку, хотя, признаюсь, чуть не поддалась паранойе по поводу того, что отвечать на вопрос «откуда ты» было как будто бы неудобно. Но это быстро прошло, потому что я пришла к пониманию, что эта паранойя связана с желанием понравиться людям, а я никому понравиться не хочу, целей таких не преследую. Скорее, наоборот — если я
Коля: И даже искусство не поможет увидеть будущее?
Дженда Флюид: Дело в том, что современное искусство — это, грубо говоря, язык, коммуникационная система, действующая в основном в демократических обществах. На этом языке обсуждаются насущные проблемы искусства, политики, социального состояния общества, которые волнуют художников из разных мест, контекстов. Ну, это критический язык прежде всего, это высказывания, которые в идеале не должны цензурироваться. На таком языке, очевидно, нельзя разговаривать при тоталитарных режимах, только в подполье. И, мне кажется, когда ты сидишь в подполье — тебе не до будущего, с настоящим бы разобраться, воздухом подышать, что ли.
Интервью взял редактор Post-Marxist Studies Коля Нахшунов
