Мамардашвили и Фуко. Пересечение мыслей. Часть 1
Просмотрев курс лекций по современной европейской философии, прочитанный М. Мамардашвили в 1978-1979 годах, невольно сталкиваешься с темами, которые Фуко развивает в своих последних работах и лекциях, посвященных проблеме субъективации. При этом, безусловно, Мамардашвили не только практически не упоминает Фуко в ходе своих лекций (только в разговоре о структурализме), но и не употребляет терминологию, присущую французскому коллеге. Также, в рамках самого курса, помимо интереснейшего и простейшего для понимания стиля повествования, можно обнаружить целый ряд достаточно оригинальных идей.
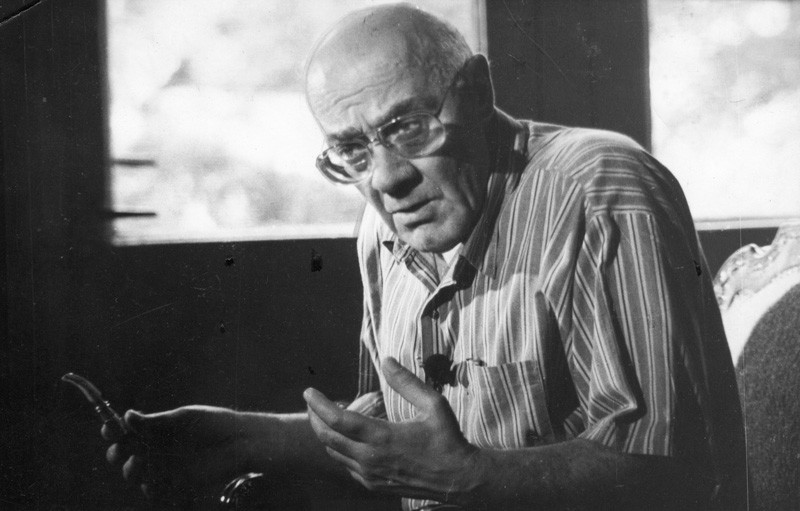
Вводная лекция Мамардашвили начинается с разделения всевозможных текстов, относящихся к философии, на прямые (аналитические) и косвенные (выразительные). Первые тексты требуют, по его словам, понимания, в то время как вторые — интерпретации и расшифровки. Тут же он проводит аналогию и сравнивает научный текст, требующий знания определенных языковых средств и выражений, и проповедь, целью которой является введение человека в определенное состояние сознания. Таким образом, он тут же вписывает экзистенциальные работы ко второму типу, а феноменологические — к первому.
Далее он вводит еще один интересный элемент в свое повествование, являющийся педагогическим приемом в ходе лекций и философской установкой, которой, видимо, обладал и в своем собственном философствовании. Ссылаясь на своего, по собственному признанию, любимого философа — Рене Декарта — он призывает к великодушию. «Великодушие — это допущение того, что может быть что-то другое, чем мы сами, и что нельзя требовать, чтобы мир соответствовал нашему или вашему уровню развития, нашим представлениям, нашим желаниям и нашим мыслям». В частности, он призывает к этой вещи в свете того, что многие косвенные тексты могут показаться непонятными или даже абсурдными, и в таком случае надо сделать допуск великодушия в предположении, что в этом тексте есть
Позже он призывает своих слушателей к пониманию того, что философия не является системой знаний, как любая наука и, что оно не передается путем обучения. Философия для него — это особое знание о себе и о мире, которое необходимо постоянно отслеживать и постоянно стремиться и быть готовым изменить себя, сделать над собой особое усилие, чтобы это знание о себе и о мире соответствовало истине.
После этого, он, переходя к ответу на вопрос о том, что такое философия, утверждает, что ключевым явлением, изучаемым философией, является личность. Личность для него — это не просто родившийся человек, а результат особого акта, «второго рождения», которое Платон называл «вторым плаванием». Первое плавание — человек родился, и он естественным образом проходит через годы жизни, поскольку он растет и потом стареет, происходят какие-то события, он плавает в море жизненных обстоятельств. А есть второе плавание, которое есть какой-то особый акт, второе рождение, акт собирания своей жизни в целое, собирания своего сознания в целое, целое в том смысле, в котором это слово можно применитьк художественному произведению, — как некое органическое единство, которое не само по себе сложилось, а является именно целым. Вокруг изменения понимания личности, сознания человека, его субъективности, говоря словами Фуко, и будет выстраиваться его повествование современной европейской философии. В нее он включает экзистенциализм, феноменологию, неопозитивизм, или так называемый логический позитивизм, философскую антропологию, философию жизни, философию культуры, герменевтику и метафизику.
При этом он акцентирует внимание на том, что современным, в «отличие от классического, или традиционного, является все то, перед лицом чего мы должны с собой что-то сделать, чтобы воспринять происходящее, нарисованное, написанное или звучащее». Под современностью XX века он понимает все события, происходившие после Первой Мировой Войны, а к современной мысли относит все то, что с точки зрения исторического времени окружает нас до сих пор, к примеру, генетика (1901 год), квантовая теория (1900), теория относительности (1905) и т. д.
Во второй лекции он развернуто описывает феномены, которые одновременно повлияли на мысль XX века и стали предметом анализа философии. Первым таким феноменом является появление идеологического государства, которое предопределило то, что весь пафос философии XX века основывался на антиидеологических установках. Социальная химия, которая породила критически-направленное мышление, состояла из силы идеологических связей (управление людьми через организацию и управление их сознанием); феномена массы; феномеан аморфных, или магматических, социальных структур. Главной темой, которая была порождена идеологией в целом, стала проблема исчезновения интеллигенции и переход общества в режим, когда люди, занятые разработкой духовных ценностей и обладающие, в представлении народа, особыми дарованиями для допуска к истине и привлечения к ней масс (аристократия или интеллигенция до появления идеологий), теперь «задним числом оправдывают существующее, придав существующему такой вид, что это существующее вытекает из глубоких оснований мироздания» (здесь видно влияние Грамши).
Необходимо отметить, что в его понимании современная философия сместилась в сторону, во-первых, конкретности, во-вторых, синкретизма и, в-третьих, индивидуации. Говоря о конкретности, грузинский философ указывает, что в «философской культуре (и не только в философской) XX века появилась мания настаивать на конкретном, ощутимом, непосредственно доступном наблюдению, появилась какая-то подозрительность к объяснению, какая-то подозрительность к абстрактным сущностям, или, повторяю на своем языке, к трансцендентному миру».
В идее синкретизма есть указание на то, что сами исторические линии, проявления нашей жизни, наши акции в том виде, в котором они совершаются, синкретичны, целостны, или, как выражался один из антропологов XX века, Марсель Мосс, исторические факты тотальны по своей природе; или, иными словами, нечто совершается, содержа в себе все то, что мы потом различим: там и чувство, и разум, и наука, и экономика, и идеология, и бытие — все. И может быть, важно взять факт в этом синкретическом, тотальном виде, который не знает наших различений еще и потому, что сами эти различения есть продукт истории. Например, различение и выделение в человеке его психологических качеств есть язык исторической продукции. В целом, он выделяет три пункта в этом смещении современной философии. Первое — завоевание различения языка и бытия, второе — завоевание различения культуры и бытия, и, в-третьих, завоевание мысли о том, что культура, будучи только культурой, в любой данный момент в принципе многокультурна и не существует одной, универсальной, естественной, истинной культуры. «Тем самым мы видим, что под сомнение ставится основной комплекс европейских идей, комплекс монокультурности и комплекс рассмотрения всей истории как прогрессирующего шествия к этой данной, единственной культуре, которая вызревает, сбрасывая с себя примитивные, недоразвитые одеяния, ветхие одежды, которые сохраняются параллельно с истинной культурой только в виде архаических остатков». Индивидуализацию он понимает, конечно же, в контексте марксовской идеи отчуждения и теме существования в экзистенционализме и т. д. Одной из ключевых идей в этом пункте, на его взгляд, является идея, что «люди равны только в том смысле, что должны быть равны условия, в которых люди могли бы совершать акт индивидуации (и общество должно к этому стремиться), то есть акт личностного развития, им нельзя в этом мешать, и усилия социальной конструкции и тех вещей, о которых я говорил, могут быть направлены только на это; люди не могут быть равны, потому что неминуемо будет разброс актов индивидуации». Современная философия XX века, по его мнению, начинается с осознания, что человек сам по себе — ничто. В целом, под индивидуализацией он понимает процесс складывания личности, личностного развития, что очень напоминает субъективацию у Фуко как складывание субъекта. При этом оба автора обращаются к античным источникам, подтверждая свою точку зрения.
На этом заканчивается его подготовительная часть курса лекций. Уже в восьмой лекции он переходит к разбору понятия «феномен», а феноменологию в целом разбирает детально вплоть до двенадцатой лекции. Среди феноменологов он признает только Эдмунта Гуссерля, а также его ученика — Мартина Хайдеггера, указывая на то, что последний
Понятно, что вся феноменология в целом занимается проблемами сознания и трансцендентального субъекта. В целом, его изложение феноменологии изложено в начале девятой лекции, в качестве напоминания. «Во-первых (и это “во-первых” состоит из трех пунктов), есть некоторые образования сознания, и именно они называются феноменами, то есть такие образования, которые, будучи составными, сложными, тем не менее, воспроизводятся и функционируют в сознании независимо и поверх своей сложности. Далее мы выяснили, что сознание в свете этого факта выступает и переживается мыслителем как некое сложное, многоструктурное, иерархическое образование. Причем структуры, составляющие эту иерархию, могут быть генетически разнородными, возникшими в разное время и в разных местах, исторических местах, конечно, культурных местах. И последнее: все эти образования сознания, называемые феноменами, и вообще всякие образования сознания, наслаиваясь одно на другое и иерархизируясь при этом наслоении, обладают свойством жить жизнью друг друга, то есть один какой-то, скажем условно, низший слой сознания может жить и двигаться в терминах другого слоя сознания».
Также он кратко поясняет проблему редукции, под которой понимает «прежде всего проблему особых очевидностей, или достоверностей, сознания, проблема данных сознания». Он различает проблему данных сознания в связи с феноменологической редукцией от проблемы данных сознания в классической философии, утверждая, что данные в феноменологическом смысле слова не даны в обыденном смысле этого слова. Феноменологическая данность есть нечто, что реконструируется. «Это есть такая очевидность, которую нужно увидеть, что, казалось бы, противоречит обыденному смыслу слова очевидность. В нашем языке очевидностью называется то, что мы просто видим, а в философии данностью называется нечто, которое нельзя изменить и изобрести мышлением».
Мамардашвили, положительно отзываясь о феноменологии, указывает на то, что за ее внутренним пафосом мы обнаруживаем антиидеологический замысел: «в феноменологии есть философски построенная, аналитически развернутая попытка завоевать некоторую самостоятельную для мыслителя, для субъекта позицию в идеологическом мире, такую позицию, которая блокировала бы в его сознании и мышлении идеологические напластования, или наросты».
Целью этой небольшой статьи не является дословный пересказ обзора европейской философии, но даже по небольшим деталям видно, что стержневой темой для Мамардашвили является проблема субъекта, субъектности и личности. При этом он постоянно оговаривает то, что необходимо взращивать свою сознание, работать над ним, что напоминает знаменитую «заботу о себе», которую развивает Фуко.
С двенадцатой по пятнадцатую лекцию он ведет повествование об экзистенциализме. Список экзистенциалистов, на которых он ссылается, следующий: Карл Ясперс («Психология мировоззрений»), Габриэль Марсель («Метафизический дневник»), Мартин Хайдеггер («Бытие и время»), Ж.-П. Сартр («Трансценденция Эго», «Эскиз теории эмоций», «Воображение»), а также Кьеркегор, Бердяев, Шестов, Камю и
Экзистенциализм, по его убеждению, канализировал себя через форму афористики. Будучи несистематическим, отрывочным, дискретным выражением каких-то истин, он очень сильно пришелся по вкусу современной аудитории именно потому, что современная аудитория и современный философский настрой характеризовались полемикой против мании философского системосозидания.
Начинает он с образа спектакля, который, по его мнению, является одной из ключевых точек приложения сил экзистенциализма, и ссылается на кьеркегоровский мотив, который звучит так: «Кьеркегор говорит: мыслитель, говорящий о мире, забывает о том, что он часть мира; то есть то, что сказано о бытии, уже есть бытие, говорящее о бытии, и всякую фразу о бытии, или о мире, окружает облако уже-бытия. Уже кто-то есть, и этот кто-то есть говорящий о бытии, потому что путем этого говорения он есть то, что он есть, и не был бы таковым, если бы не ставил вопрос о бытии».
Разумеется, он упоминает и проблему «пограничных ситуаций» — ключевой термин экзистенциализма. Экзистенциализм и вместе с тем его почитатели, начиная где-то с рубежа Первой мировой войны, вспомнив или не вспомнив традиции Спинозы, Декарта и Канта, которые обновили эту тему в европейской культуре, продолжают или восстанавливают традицию стоицизма, то есть человеческого действия и достоинства без надежды на успех и без всякого внешнего оправдания и смысла. Нет никаких оснований, чтобы действие это было успешным, чтобы оно пошло нам на благо и так далее, но, тем не менее, в самом человеческом достоинстве что-то требует предприятия без надежды на успех. К чему я веду? К тому, что есть описание, которое строится экспериментально, это так называемая «пограничная ситуация». Что значит пограничная ситуация? Пограничная ситуации есть ситуация, выявляемая прожектором экзистенциалов. Пограничная ситуация — это когда нарушены все привычные связи, привычные, воспроизводящиеся устои мира, которые дают нам какие-то гарантии, какие-то основания и прочее. Стоики тоже в свое время были в пограничной ситуации, когда на их глазах рушилась античная цивилизация. И как быть, если нет внешних оснований? Они назывались стоиками, поскольку завоевывали эту опору в самих себе.
Экзистенциализм, как убеждает нас Мамардашвили, пытался оживить своими понятиями ощущение, которое состоит в понимании того обстоятельства (а это понимание обостряется в экстремальной ситуации, то есть в пограничной ситуации), что в мире только хаос и ты — перед ним. Если в нем, мире, будет порядок, то только после того, как ты возьмешь на себя какую-то ответственность.
Основная идея, которая проступила через экзистенциальную философию, — это понимание, что человек есть некоторое состояние, усилие, а не
Завершая свой экскурс об экзистенциализме, он пытается убедить слушателей, что он приобрел странный характер: во-первых, антикультурный, во-вторых, антигуманистический, а люди, принадлежащие к экзистенциальной философии, говорили вещи, прямо исключающие одна другую, говоря, в
Конечно, говоря об экзистенциализме, чьим основным предметом рассуждений, в конечном итоге, всегда является человек, трудно не упоминать о субъекте. Тем не менее, читая Мамардашвили более внимательным образом, невольно замечаешь в его повествовании то, что было проделано Фуко несколько лет спустя, но с заходом с другой стороны, с фокусом, нацеленным на античную философию. Речь здесь ведется вовсе не о субъекте, а о субъективности, то есть процессе складывания субъекта. Именно поэтому грузинский мыслитель постоянно подчеркивает идею о том, что любой концепт готового человека или субъекта — несостоятелен и требует другого взгляда. Видно, что он не поддерживает теорию субъекта и считает человека — состоянием (а Фуко — изобретением), а не готовым, родившимся продуктом.
