12×12. Март # выбор Евгения Миниярова
Реч#порт публикует мартовскую подборку в рамках проекта «Новосибирская поэзия: 12×12». На этот раз 12 стихотворений выбраны поэтом Евгением Миняровым, а сопровождают их работы художника Виктора Бухарова.
Январскую подборку можно прочесть здесь.
Февральскую подборку можно прочесть здесь.
В чëм суть проекта «Новосибирская поэзия: 12×12»? В течение 2020 года 12 экспертов, приглашённых редакцией, опубликуют на страницах Реч#порта подборки, составленные из самых важных, на их взгляд, стихотворений в истории новосибирской поэзии, и прокомментируют свой выбор. В каждой подборке будет представлено 12 стихотворений, написанных 12 разными авторами. Тексты, уже опубликованные в рамках проекта, не должны повторяться в последующих публикациях. Каждая публикация будет сопровождаться визуальным рядом, составленным из работ новосибирских художников.

Вместо предисловия
А
В том окне по временам
И меня бывает видно.
А вот советские социологи учили нас, что пассажиры трамвая не являются членами коллектива. Коллектив — это ого-го, а что там трамвай! А вот Мартынов, не споря с учëными людьми, просто говорит:
Так случилось —
Мы вместе!
Вот именно.
Написано, кстати, в «том зловещем 1938 году», как высчитал в уме Антал Гидаш. Едем дальше.
Вивиан Итин
+ + +
Меня любить никто не сможет,
Я слишком замкнут и колюч.
Гремучий гейзер нас тревожит,
А утоляет жажду ключ.
Но я иду и улыбаюсь,
Мечтая не идти — лететь,
Туда, к придуманному раю,
Где чудо иль, вернее, — смерть.
Я не умру, как Блок, в постели,
Я
И в человеческой метели
Горячим снегом захлебнусь.
Жена, пожалуй, вспомнит к ночи,
Что был я груб и очень злой,
Ругался, «как простой извозчик»,
И поздно приходил домой.
Вивиан Азарьевич Итин (1893 — 1938) был, как известно, большим романтиком и весьма известным общественно-литературным деятелем Н-ска 1920-х — 1930-х годов. Тут надо бы для иллюстрации его «советского» облика поместить небольшую поэму «Февраль», написанную как бы от лица персонажа «Двенадцати» Блока, но мне на глаза попался этот неопубликованный стишок, в процессе написания которого солидный главный редактор (и разнообразных учреждений член) обретает неожиданно глазковскую, может быть, интонацию.
Леонид Мартынов
Храм Мельпомены
Это недавно случилось. Вчера. Ночью.
Выводы сделать настала пора. В клочья
Рукопись некую я изорвал ночью.
Так никогда еще не тосковал. В клочья!…
Древность. История. Что-то не то… Что же в итоге?
Я в пиджаке. Я имею пальто. Я же не в тоге.
…Выйди из дома, если не спишь ночью.
Стены. Витрины. Намокших афиш клочья.
Слышишь ты этих лохматых бумаг шорох
На почерневших заборах!
Видишь: их ветром угнало во мрак ворох.
…Прямо не знаю, как я успел. Ровно к началу.
Кто-то, наигрывая, где-то пел, что-то звучало.
Напоминала церковный алтарь сцена.
Храмом твоим назывался встарь, о Мельпомена,
Этот кирпичный уютный чертог. Ладан
Или другой сладковатый дымок, шел от лампад он
Ввысь к куполам по зеркальным полам
Близ разгороженных пополам исповедален.
Сладкий дымок. Шел меж всяких реклам вдаль он.
Я понимал: где-то — будто гарем. Теплятся свечи.
Что может быть, чем пахучий кольдкрем, едче?
Теплятся свечи. Это зачем? Словно папессы,
Были актрисы в ризах ротонд, как дьякониссы.
Отпевали провалившуюся пьесу.
Боже, это была одновременная панихида,
Но, в общем, никто не подавал и вида,
Будто и вправду рычал злодей, сердце билось,
Пьеса из жизни добрых людей длилась.
Так кого же отпевали, скажи на милость?
«Пьесу! Я тебе говорю. Я над таинством поднял завесу».
— «Да ну тебя к бесу. Черт тебя знает, что ты говоришь!»
— «Я говорю: ты сегодня не спишь ночью.
Стены, витрины, намокших афиш клочья.
Слышишь ты этих лохматых бумаг шорох?
Так! О чем же еще я хотел тебе рассказать?
Ну, конечно, не о билетерах.
Вот что скажу: в темноте, заглянув в ложу,
Слышу я:
— «Что же “Мистерия-буфф”?»
— «Позже…»
— «Позже? Когда же?»
Ты слышишь афиш шорох?
Видишь, их ветром взметнуло до крыш, рвет на заборах?»
— «Нет, я не вижу, — ты молвишь, взглянув. — Честное слово!»
— «Слушай, а правда, что эту «Мистерию-буфф»
Совсем не обязательно воспроизводить из слова в слово
И что ее можно дополнять снова и снова?»
1936
Леонид Мартынов, как известно, не имел прописки в нашем городе, но вот что сказано в его книге «Воздушные фрегаты»: «…Куда бы я ни отправлялся, возвращаясь в Новониколаевск — позднее в Новосибирск, — я неизменно стучался в окно к Вивиану, а если дело было летом, особенно летней ночью, то просто влезал в открытое окно его комнаты». Наш человек!
Много звучных стихов нашего Леонида Николаевича просится на эту страницу. Не поставить ли сюда тот самый злополучный «Провинциальный бульвар», вырезанный из «Сибирских огней» осторожной редакцией? Но нет, подождëм, когда журнал исправит авось ошибку к столетию несостоявшейся публикации. Мне поглянулся вот этот «Храм», в котором прорвался темперамент зрелого человека и поэта, породивший нечто сюрреалистическое, прикидывающееся банальным отчëтом о происшествии.
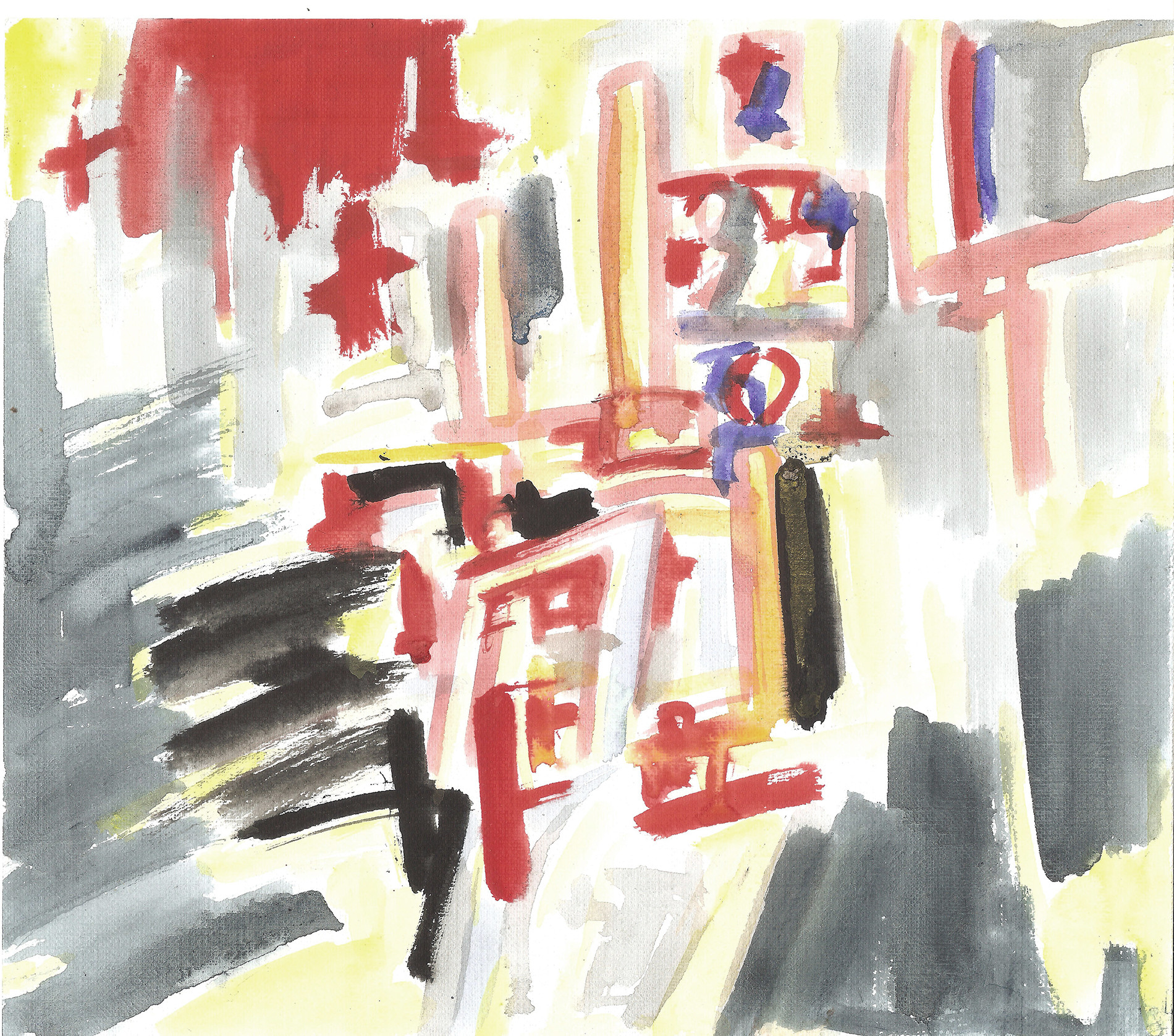
Александр Плитченко
Спящий
поэма
1.
Жара колышется над полем.
Спит гражданин, собой доволен.
2.
Лоснится в мускулах горбатых
Живой погост крупнорогатых.
Бедро дебелое взбугрила
Овечек братская могила.
В два ягодичные холма
Зарыта птиц убитых тьма.
Не потому ли мысли скупы,
Что мозг сосет свиные трупы,
И сквозь коробку черепную
В свою толкает шерсть чужую,
И поит плотоядный взгляд
Живой агонией телят?
Полдневный сон, рабочий сон,
Вдоль организма гул и стон,
Петух, утратив оперенье,
Вступил в процесс пищеваренья.
Что снится? — Бегает дитя,
Утиной косточкой хрустя.
И капли с детский кулачок
Текут по ягодицам щек…
3.
Во власти слабостей дремотных
Живое кладбище животных.
Пока громады эти спали —
В них дети птичку откопали,
Она без крылышек была
И потому пешком ушла…
Потом нашли еще кого-то —
Не то хорька, не то енота,
Но тот хорек или енот
Обратно спрятался в живот.
Тут, побросав свои лопатки,
Бежали дети без оглядки!
4.
Поскольку начиналось чудо —
Заколыхалась эта груда,
И без особенных затей
Распалась вся на ряд частей:
Быки потопали без шкуры,
И безголовой стаей куры
Помчались из конца в конец,
Явилось множество овец
И побежало, хоть у многих
Не все присутствовали ноги.
Из головы уснувшей глыбы
Пошла икра, полезли рыбы,
А из могил спины и ног
Возник телячий табунок.
И, отделившись от предплечья,
Толкая встречных и калеча,
Одна — поэтому и зла —
Медвежья лапа побрела
Душистой летнею тропинкой
Вслед за лосиною грудинкой…
5.
Так все куда-то разбежалось,
Хоть на ногах едва держалось…
Уж время в будни окунуться,
Функционировать начать,
Но только нечему проснуться,
Но больше не к чему вставать…
10-12 февраля 1979
Поэма не была опубликована при жизни, но вошла в книгу «Избранное» (2000). Мотив странности (отчасти «заболоцкий») этих стихов смущал, вероятно, и самого автора, не говоря уж о редакторах, и листки лежали в столе до времени. Ясно вижу, как Александр Иванович, вооружившись очками, открывает заветную папку, чтобы проверить зрелость залежавшейся вещи. Ведь, по его словам, советоваться следует с собой вчерашним, не сообразуясь с чужими строками и посторонними мнениями.
Этот его совет — держаться своего — он передал мне не только словами, а
Анатолий Шор
[из сб. «Тексты и комментарии»]
I
Евгению Миниярову
Возможно ли и надо ли забыть
крестообразных птиц тревоги нашей
— прогулки долгие бездомны и светлы
как горькая надежда полюбить
молчания замëрзшие кварталы
высокой осени опустошëнность, понимать
музыки тëмной строгие законы —
Беги, Евгений. Вздыбленная бронза —
Ты бредишь белыми ночами, Петербург
Бледна смертельно, опухоль в мозгу
Сибирь в снегу смирительном, Евгений
II
Публию Овидию Назону
В дунайских плавнях
там, в детских снах моих
в дождливом декабре какое горе бродит?
Родители о
устало спит. Но это много позже
III
Людмиле
В реке над городом всплывает луна
как мëртвая рыба, а дети всë ещë играют в мяч
на самом дне ночи. Мне некому сказать, Люда
(как губы твои дрожат): нынче озëр осенних хлынувший холод
там, где мы жили
(любить нельзя и невозможно)
Но эти годы и горечь покоя
благодарю; о, прелестнейший друг мой,
не обижайтесь — что музыка? — бред
пространства немого
IV
Эпилог
Забывая слова, не говоря ничего, забывая, Обь, хрящевидные воды
Нежные прожилки деревьев на запястье весны
осторожно целую, склонясь головой виноватой —
озябшая спутница, муза.
Я знаю несколько вариантов этого текста, но все они сходятся в одной невидимой точке пересечения силовых линий единого замысла, который постоянно ускользает от рассеянного взгляда. Что если поместить их все в одном пространстве для правильного прочтения? Но для этого следует изобрести способ отображения этого 3D-текста. Впрочем, способ известен. Нужно иметь тихое мужество жить, дышать разреженным воздухом обыденности и помнить, что этим же воздухом дышали и Басë, и Мандельштам. Мне не стыдно находиться в этом стихотворении тенью себя, рядом с тенью Овидия. Нам хорошо быть здесь, в гостях у Анатолия, в качестве молчаливых собеседников. «Из этих строк как нам себя убрать?» — спрашивает он своего читателя в одном из своих стихотворений. Здесь и вопрос, и ответ.

Иван Овчинников
+ + +
Вот слушай, вот как на
На черном да на синем сено плыло,
плыла бы так копна да все желтелася.
А как в
А и нет как никого в
Дак ты подплыви, подгреби к ней, копне.
Да высади ты из копны на лодочку,
уж ты к носику наперед посади
да разлюбезную свою, эх,
мыслишку.
Что сказать? «Позови понимальщика Макса / и огромные слезы готовь», — сказал однажды Иван Афанасьевич. Ни прибавить, ни отнять. «Овчинников произносил такие простые слова, а получались коаны», — делилась со мной впечатлением Елена Лилова. Ну, похоже. Только коан хорош, когда отделан, а у Ивана вот этот стишок словно бы ещë пишется. И хочется читать дальше, а Иван уж новую поймал «эх, мыслишку», и не мелкая она, а лëгкая. Значит, хорошо бы сюда хоть с десяток таких штук, чтоб вчитаться. Тут опять фокус: маленький текст не только зовëт к себе соседей, он сам при повторном чтении меняется, его больше, чем один!
Анатолий Маковский
+ + +
Здесь пахнет зеленью
Здесь искренн лес
Своего рода
Зеленая
Обитель грез
И очень мне нравятся сосны
Сменившие город несносный
На миг я забуду богему свою
И лютнею прежнею в руки
Но лучше послушать как птицы поют
Что ж дятел
Тукай
Ты тоже эстрадник
Ты клоун как я
Но только в тебе больше меры
И это понятно:
вино и друзья
Нервы
Вот только кукушку не нужно считать
Уж слишком там много обещано
Что если взаправду отшельником стать
Но — женщина
Конечно я знаю много молитв
И в искушеньи есть удаль
О Господи
Мир Твой
Да что говорить
Ю
Доль
Но пахнет зеленью
Но чуток лес
Сухой валежник
Апофеоз
Природы древней
Равнодушной
к нашей жизни
бренной
Маковский не эстрадник, хоть он и блистательно рассказывал свои нескончаемые импровизации — с «колоссальной настойчивостью», по меткому замечанию Бродского об истинно авторском чтении, в ритме стиха. Слова следуют одно за другим в стройном порядке (а то и беспорядке, впрочем — там, где надо). Ритм чтения следует ритму письма. А вот здесь ритм явил себя в прихотливой графике стиха (аккуратно воспроизводимой публикаторами, спасибо им за то). А где же знаменитая «антирифма» Маковского? Или он решил, что и так больно красиво? Тут на еë место явилась наивная незвучащая пара «лес — грëз» (может быть, даже «грез», как бы из 17 столетия). И блистательная завершающая строфа, словно музыкальная кода этого орнамента! Клоун? Да он мастер, однако!
Александр Денисенко
+ + +
Посадили меня на цепь,
Отошли на сотню шагов,
Сели в пыль на дорожный шов.
Бродит ястреб поверх тополей,
Молодой, вороной мясоед.
О, кошмарный и быстрый, о нет.
Вдруг раздался свисток соловья,
Он упал, как кусок хрусталя,
За пшеничную цепь
Приподнял мою степь
И повлëк в голубые края.
Там на небе одно есть село.
Не достанет туда жевело.
Как у первых ворот
Меня встретит народ
Целовать мой запекшийся рот.
А когда я разжал кулаки,
Были полными обе руки
Горьких трав земляных,
А из ран пулевых
Я достал двух шмелей полевых.
Васильков синеглазый комок
Взял с ладони, потупившись, Бог,
Был он в первом ряду
И у всех на виду
На пилотке потрогал звезду.
И стоял я, убитый, в степи,
Куда Бог меня сам опустил,
А навстречу уже
Шли ко мне по меже…
…шмель уснул в моëм нежном ружье.
В землю Русьскую мой соловей
Всë спешит из небесных полей,
Но тяжëлый, как ртуть,
Воздух бьëт его в грудь,
Помогите ему кто-нибудь…
Как сильно и ярко, и так прозрачно, в тишине вечности стоит перед нами эта картина, это сказание о русской судьбе. «Всë значение песни только в словах, а напев сам собой приходит», — полагал дядюшка Наташи Ростовой, знаменательно не названный Толстым по имени. Верно ли тут это вспоминается, не знаю (там песня, а тут стихи), а вспомнилось. Вот почему: подобно как тот безымянный певец, Денисенко словно бы не строит речь (или мотив), а пересказывает по-своему бывшее до него, как это сказывали калики перехожие. Только в отличие от них Денисенко решительно входит прямо в свою картину, как режиссëр своего кино. И делает это единственно верным образом!

Эрика Крейк
Троя
Скалы.
Лес.
Степь.
Весна наступает полями.
Рощи.
Болота.
Ручьи.
Так было всегда.
Жрецы.
Всадники.
Земледельцы.
Мирный человек спит.
Приходит первый солдат.
Лев.
Мрамор.
Рассудок.
И дальше тысячи лет:
дамбы,
водохранилища,
реки,
запруды,
вечное небо,
песчаные города,
ультиматумы,
шëлковые палатки.
Разрушить крепкие стены.
Разграбить царский дворец.
Трижды туда и обратно.
Сталь.
Уголь.
Пшеница.
Где кончаются волны —
начинаются доки.
Где кончаются доки —
начинаются рельсы.
Где кончаются рельсы —
начинается Троя.
Где кончается Троя…
Гнев, о богиня, воспой!
Где копья, где стрелы,
Где глина, где ил.
Единственная книжка Эрики вышла в
И совсем редко благоухающий ангел подаëт нам на серебряном блюде короткую записку, которая сгорает в момент чтения, осветив на мгновение безбрежную пустыню из букв.
Так однажды я получил послание Эрики Крейк. Жест ангела был корректным, а буквы сгорели очень быстро. Жест! Только он и остался в памяти. Что ж, это немало. Пусть «львам не место в тихой долине» (Э. К.), я знаю: существует жест, возвращающий этим буквам правильное прочтение: «Hic sunt leones».
Михаил Дроздович
+ + +
нельзя кто скажет что нельзя
кто смажет и на хлеб намажет
манжет земли
дремли дубами в облаке скрываясь
удел от дел отгороди
вбивай не сваи, а свои
предчувствия
учись учи на чин чини
чинарик только свой припрячь
не вскачь
а тихо неторопко
по тропкам топким боковым
ступай
поступок не измерен
мирян прощению родных
пройди
не замечая чая
встречи речи и
случая
в простом пространстве числ
Миша явился на ЛИТО к Фонякову в сопровождении группы поддержки, состоящей из его однокурсниц с филфака. «Фиалочками» некогда назвал их Вознесенский. Здесь он так бы не сказал — эти боевые подруги настроены были весьма решительно, готовясь дать отпор ожидаемой критике из уст официоза. Скандал, однако, не состоялся. Свои радикальные тексты юный Дроздович произносил ровным голосом, а официоз в лице Ильи Олеговича доброжелательно улыбался. Запомнился образ бродячей собаки, которая обрадовалась вдруг отражению молодого месяца в луже: «как будто кость нашла». А дальше… Девушки, разумеется, скоро вышли замуж, Миша предался рассеянному образу жизни «перехожего» — этим характерным неологизмом он назвал свой неизданный сборник.
Сюда я намеревался поместить иной, более яркий и плотный текст, содержащий деконструкцию известного сюжета: «нас мало / нас может… / быть трое… / быть четверо / если так то и говорить нечего / иль остается только говорить». Этот фрагмент, однако, был частью не вполне достоверного машинописного источника. Итак, мы находимся в процессе чтения. Едем дальше.
Жанна Зырянова
+ + +
А. Маковскому
Ах, чертова порода,
Прости, моя родня,
Кто шизик для народа
Тот гений для меня.
О, плечи и предтечи,
О, грусть моя — прегрусть,
Пусть двигатель кто вечный
Изобретает, — пусть!.
Ты не следи за мимикой
Лица, когда заслон…
Он раньше был алхимиком —
Придурком ноне он.
Зола летит на олово
И рыжий зверь рычит
На золото, на золото,
На слиточки в ночи.
За птицами, за спицами,
За мною и тобой
Гуляет инквизиция
С дубинкой и трубой. —
…Здесь задница Маланьина,
В ней синее перо,
А то, что новым названо, —
Старым старо. Старо!
Лазурная гостиница
Лазорева огня.
Жила там ясновидица…
Предвидела меня.
Огонь все лазуриты
Сжег ясной бирюзой,
Сокрылись изуиты
За черною козой.
Все избежали гибели,
Кому ж не помогли,
Не видели, не видели,
И видеть не могли.
Не видели насилия,
Лазурной была мгла,
И только птица синяя
Часть солнца заняла.
Ты птицей этой синею
Глаза мои прикрой,
Но птица над пустынею,
Над голубой золой.
Я не желаю мучиться,
Я не желаю зла,
Зола, лети, как хочется, —
На то ты и зола!
Нельзя было обойти этот текст, написанный маковскими стежками по-своему — лучшее посвящение поэта поэту. Жанна была своей в компании друзей из «сибирской поэтической школы» (термин Нины Садур) и была собой. Вот же еë голос:
И кирпичная водокачка,
И плетеная городьба,
Будет радиопередача
Из соседнего городка.
Эти строки повторяю про себя с тех пор, как услышал. Обыденность эта волшебно звучит в обрамлении иных строк.
Вот и будет, значит, радиопередача из райцентра, и для изумленной родни прозвучит живой голос Жанны: «Эй, шизики, изуиты, как слышно?»

Вениамин Абалмасов
Сон города
Облака
Отражают асфальт,
Закрывающий небо.
Фонари
Отражают холодное
Лунное море.
Остывая от солнца,
Становятся тëмными стены,
Где размазанный глаз,
Как окно,
Загорается белым.
В постоянном пространстве
Стоит постоянное время.
Пустота отражается тенью
На стëклах витрины.
Перекрëсток настойчиво бьëтся,
Как жëлтое сердце.
И по линии улицы движется
Медленный ветер.
Отраженье воды на стекле
Называется блеском.
Разбиваясь о стены, вода
Превращается в капли.
Через воздух так медленно падают
Капли,
И капли
Прилипают к асфальту, как будто
Стеклянные
Листья.
Провода разрастаются
Ветками медного леса.
Электрический ток
Заключëн в фиолетовой искре.
Электрический знак на стене
Превращается в окна.
Остановка сознания
Слишком похожа на вечер.
Трафареты окна
Остывают квадратами блеска.
Лабиринты квадратных домов
Закрываются небом.
Это долго и медленно, как состояние смерти.
Нулевое давление здесь тяжелее цемента.
Звезда
упала стальным острием,
Звонко ударив город.
Фонарь
разогнулся, направив вверх
Лицо в прозрачной пластмассе.
Окна —
глаза асфальтовых кошек —
Зажглись зелëным и жëлтым.
Крыши домов,
как крылья жуков,
Вздрогнули, шевелясь.
Труба —
каменный хобот слона —
Сосала мокрое небо.
Трамвай
заплакал слезами-искрами,
Целуя холодный рельс.
Улица
выгнулась на земле
Плоским и скользким телом.
Руки реки поднялись к облакам,
Сорвав наручник моста —
ДА !
На западе,
Где горизонта
Зубчатая горная цепь
Закрывает горячий, как красное море, закат,
На севере,
Где мëртвые ветры
Ломают тяжëлые белые льды,
И там,
В океанах востока,
Где белые рыбы взлетают из синей воды,
На юге,
Где пыльные смерчи глотают песок,
Среди лабиринта опутанных солнцем лесов,
Где капли из неба внутри пирамиды травы
Стекают по острому краю крыла стрекозы
И листья растений становятся тысячей линз,
Где бабочки трогают крыльями тëплую пыль,
А реки прозрачнее линз и теплее слезы.
Смотри! Это линии леса сливаются в свет
И быстрые птицы срывают горячую сеть,
Роняя горящие перья на зеркало рек —
Из магния неба на ртутную плоскость воды,
Где рыбы шевелятся, скованы льдом чешуи
И нервы растений, как корни, врастают в песок,
Где странные травы сквозь кольца холодной змеи
И сороконожка на тонкой вершине ствола,
И жук, у которого крылья, как бронзовый лак,
Касается неба концами суставчатых лап
И небо блестящим дождëм осыпается вниз,
Туда, где янтарные звери, покрытые шкурами искр
Лежат на прозрачных порогах алмазных дворцов.
Смотри!
Это только лишь тень неустойчивых снов.
Это сон
Превращается в пепел зари на востоке.
Это солнце восходит для нас,
Не умеющих видеть.
Это утро наступит для нас,
Не умеющих видеть.
Посмотрите друг другу в глаза
Из стекла и цемента…
Это утро начнëтся водой,
Освещëнной из окон…
Это утро начнëтся
Шипением шин на асфальте…
И троллейбус,
Аквариум мира других измерений
Среди серого города
Жëлтым наполнится светом…
Это утро, холодное,
Как бесконечная рыба
Животом облаков
Задевает за скользкие крыши…
Это утро похоже
На
И оно постоянно,
Как шум часовых механизмов.
И оно одинаково,
Как бесконечная лента.
И оно неизменно
И неизбежно, как вечность.
Это долго и медленно,
Как состояние смерти.
Это долго и медленно,
Как нулевое давление.
Неожиданно в нашем коллективе (попутчиков, если вы помните) обнаружился аноним (безбилетник, иными словами). Имя, коряво выведенное на его самодельном бэйдже, не скажет вам ничего. Заслуживающие доверия источники утверждают, что носитель сего псевдонима некоторое время числился среди жителей Н-ска. Рукопись неожиданно нашлась в моем столе, будучи утерянной 30 лет тому назад, и предназначалась она к печати в альманахе, не дожившем до вещественного существования. Ликующая графомания этого нескончаемого текста не вполне внятно, но убедительно объяснила и предъявила свой метод конструирования себя. Мне к нему нечего добавить.

Сергей Тиханов
+ + +
Обезопасим ближние ряды,
обезобразим этот дивный сад.
Сюда идет Котельников Вадим,
который любит гордый виноград.
Котельников неслышно снял штаны
и галстук он завяжет в пять минут.
Он с детства видит лишь цветные сны
и все о нем поют.
Котельников играет на трубе
и музыка, легкая как дым,
плывет над миром голубым.
Прошу тебя, услышь его живым.
1990
А теперь мы должны остановиться, ибо остановилось время, а пространство свëрнуто в пределах этого текста для внимательного и неторопливого взора. Здесь явно что-то происходит, и действующее лицо этой мизансцены, построенной, может быть, по заветам творцов того открытого театра, который у Ружевича именуется открытым, а мы порой маркируем его табличкой «абсурд»… — действующее это лицо имеет даже имя и фамилию, однако… Некто Котельников, с опаской приблизившись к своему двойнику, видит себя слишком отчëтливо, он встречается здесь с Котельниковым как таковым, и даже более.
— Что вы видите, г-н Котельников?
— Да вот же, вот!
И Вадим Котельников (это он?) замолкает, преисполнившись.
