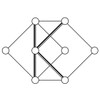Читаем Энгельса: технологии и человек, власть пара, материальность договорённостей
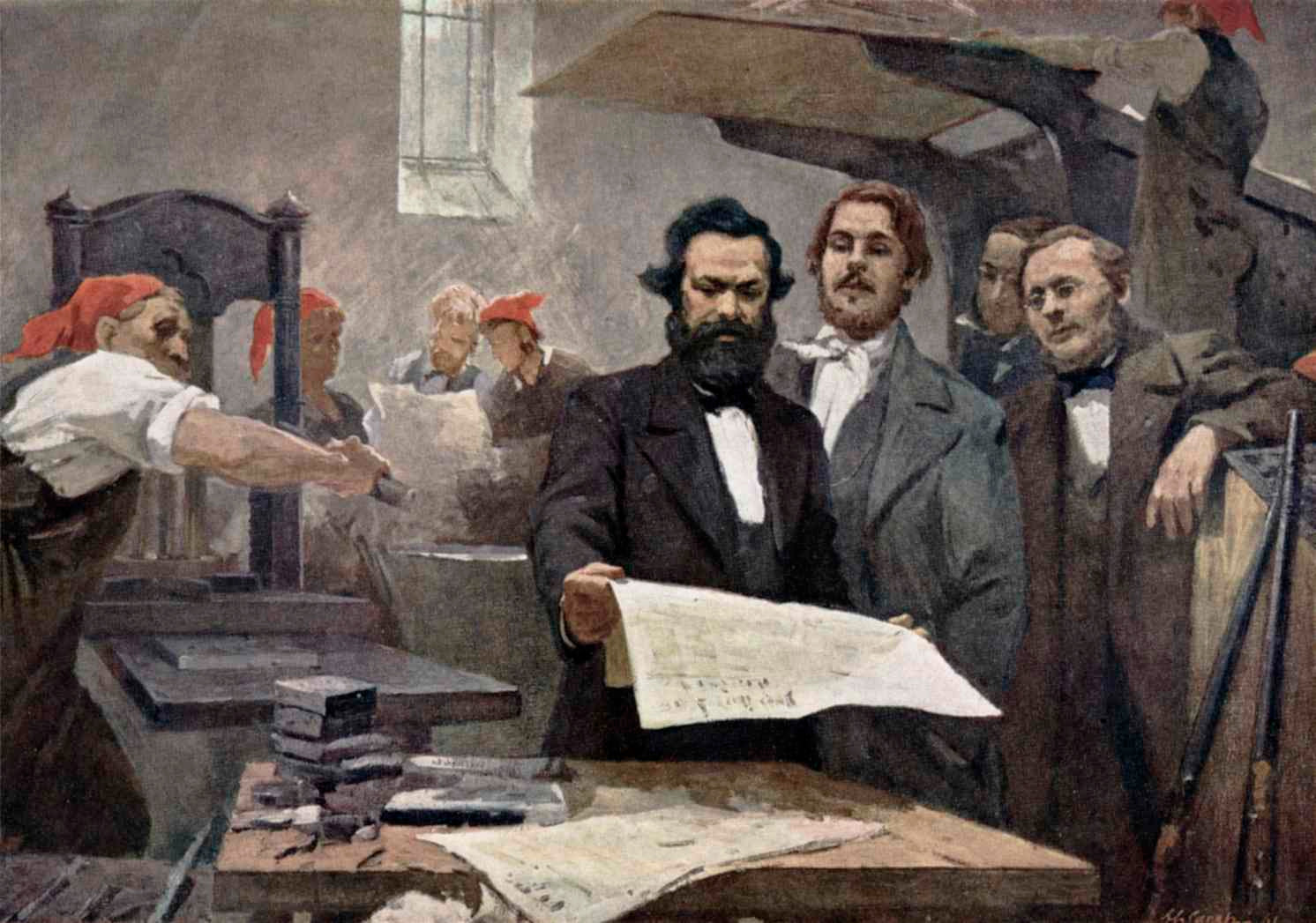
Это расшифровка семинара клуба любителей интернета и общества. Мы обсуждали текст Фридриха Энгельса «Об авторитете». Он очень короткий, буквально три страницы, и насыщенный. Предлагаем вам последовать за участниками семинара в изучении текста Энгельса.
В семинаре участвуют:
* Полина Колозариди, сокоординаторка клуба любителей, интернет-исследователь (тг-канал о проводах и болотах)
* Лёня Юлдашев, сокоординатор клуба любителей, исследователь истории интернета
* Дима Муравьёв, сокоординатор клуба, социальный исследователь данных (тг-канал об этом)
* Денис Сивков, антрополог космоса (тг-канал «Земляки и земляне»)
* Алексей Сафронов, историк советской экономики
* Яна Григорова
Лёня Юлдашев: Здравствуйте. Меня зовут Леня, я сокоординатор клуба любителей интернета и общества. Это неформальное объединение исследователей, чьи интересы связаны с интернетом. Сам я занимаюсь историей этого самого интернета. В этом году клуб любителей открывает трек в магистратуре в ИТМО. Это магистратура по цифровым гуманитарным наукам. Там можно научиться визуализации данных, питону, изучать интернет. Довольно широкий набор компетенций, да? И можно выбрать, каких курсов будет больше. Так вот. Как и все, кто занят университетскими делами, мы думали, как устроить приемку. Это главный символ веры: чем больше ты сделаешь интересных штук, тем больше интересных студентов, собеседников к тебе придет. Мы придумывали разные вещи, и сам с собой придумался семинар, который мне кажется здоровским самостоятельно, без контекста приемки. Как говорил Псой Короленко: «Я люблю эти стихи не потому, что они мои». Так и здесь. Это семинар по тексту Энгельса об авторитете. Я хочу сказать пару слов о том, почему именно такой текст был выбран. В последние сорок лет социологи много пишут о техническом детерминизме и социальном конструктивизме. Причем это не только академический вопрос — мы все тоже имеем какое-то мнение на этот счет. Вот даже «Чёрное зеркало», скажем, провоцирует размышления об этом. Так вот, в социологии выиграла точка зрения, что
Лёня Юлдашев: Начнем со страницы страницы 303, где говорится о хлопкопрядильных фабриках. Нас интересует часть этого абзаца, которая на второй пдф-странице. Энгельс сообщает, что рабочие прежде всего должны условиться относительно часов труда. Как только эти часы установлены, они обязательны для всех без исключения — но при этом говорится: что касается часов труда, над воротами этих фабрик можно написать: «Оставьте всякую автономию, вы, входящие сюда». Это чуть ниже. А еще чуть выше говорится: «Все эти рабочие вынуждены начинать и кончать работу в часы, определяемые авторитетом пара, которому нет дела до личной автономии». Я не понимаю, что имеет в виду автор. С одной стороны, получается, что рабочие договорились. С другой стороны, есть авторитет пара, а
Дмитрий Муравьёв: Дальше идет фраза, что «если человек наукой и творческим гением подчинил себе силы природы, то они ему мстят, подчиняя его самого, поскольку он пользуется ими, настоящим деспотизмом, не зависящим от
Денис Сивков: Онтология у Энгельса достаточно сложная. Она может показаться однобокой, но даже из этих двух коротких фрагментов мы видим, что здесь существует достаточно много действующих сил. Есть техника, машины. Есть обслуживающий персонал или рабочие, которые договариваются, но при этом существуют еще и начальники: инженеры или капитан на корабле из другого, соответственно, примера. Человек, который может распоряжаться другими и у него тоже есть авторитет. Кажется, что мы должны понимать термин «техника» шире, чем только «машины». Организация некоторой сложной сборки, состоящей из различного типа акторов. Некоторые из них могут сопротивляться. Например, пар как часть природы, который действительно по заветам диалектики просвещения может мстить, потому что она существует по своим собственным законам, а не так, как захочется людям. Мы с вами плохо знаем прядильное или хлопко-бумажное производство, но, например, в случае с мартеновскими печами это будет более понятно: их нельзя выключать. Если ты их выключишь, твое производство остановится, потому что существуют определенные законы физики, которые существуют. И, помимо этого, есть еще некая машинность, — в смысле комплексность, — то есть некоторые сложные устройства. Они работают на пару, но у них тоже есть свой собственный, как это назвал Дима, механический авторитет. Поэтому кажется, что наши дальнейшие рассуждения могут строиться по двум направлениям. Либо мы найдем в этом тексте однозначное на действия какого-то одного типа акторов — и тогда мы признаем, что имеем дело с
Лёня Юлдашев: Он, кажется, считает, что нельзя.
Денис Сивков: Он считает, что нельзя, да.
Полина Колозариди: Если мы читаем «авторитет» как русское слово, мы непременно подставляем вопрос: чей авторитет? Собственно, это делает текст таким заманчивым для чтения в таком контексте: кто виноват, человек или агрегат. Но если мы возьмем слово «власть», у нас получится некоторая более динамичная картина, которая, мне кажется, и представлена в тексте Энгельса — потому что он говорит в первую очередь об изменении. Он говорит о трансформации, которая происходит как на уровне устройства организаций, так и на уровне возможности понимания и вмешательства в этот процесс.
Денис Сивков: Если принять твою идею социальной динамики, тогда в этом тексте Энгельс предстает безнадежным прогрессистом, потому что он всячески высмеивает возможность возвращения на стадию назад. Мне показалось как раз, что движущей силой прогресса являются силы природы. Собственно, Энгельс здесь пишет о том, что потом будет в «Диалектике природы». Так ли это, Полин? Потому что прогрессизм попахивает историческим редукционизмом, не очень классным. Энгельс говорит: «вы че, к прялке хотите вернуться? Понятно, что пар тебя прет в конец истории, в эту утопию, где нет авторитета, хотя она и невозможна». Второй момент: я вспомнил еще один текст одного энгельсовского кореша, чуть более известного. Текст о товарном фетишизме, где был другой пример с танцующими столами. Собственно говоря, логика Маркса такая: людям кажется, что столы обладают самостоятельностью и танцуют на рынке, самовозрастает их стоимость. Но на
Полина Колозариди: Я полагаю, что Энгельс — ученый-гегельянец. Он верит в науку, в эволюцию и в некоторую самостоятельность процессов. Так устроено научное познание в его время. Более того, это видно и по заключительной части. Вот последний абзац. Итак, или-или: или антиавторитаристы сами не знают, что они говорят, и в этом случае они сеют лишь путаницу. Или они это знают — тогда они изменяют движению пролетариата. В обоих случаях они служат только реакцией. Это значит, что у людей в нашем смысле слова, в индивидуалистическом представлении заблудшего XXI века, тут, в общем, мало агентности. Тут есть движение пролетариата и силы реакции. Они действительно могут действовать. Мне кажется, что это как бы базовый ход у Энгельса и у Маркса. Делают они это как ученые. Как ученые они не имеют причин сомневаться в эволюции и в движениях больших штук типа революции, реакции и вот этого всего
Дмитрий Муравьёв: Хочу развить аргумент Дениса о прогрессизме, который есть у Энгельса. Мне кажется, что он интересным образом проявляется в том, как Энгельс соотносит свое понимание авторитета с пониманием авторитета у тех, кого он критикует, то есть у анархистов. Энгельс здесь больше различает между разными видами авторитета — например, авторитетом политическим, от которого в ходе революции нужно избавиться, и авторитетом механическим, как он его называет. Несмотря на это, авторитет остается однообразным. Автор говорит, что делегаты или какое-то большинство голосов — то есть вообще процедурность, которая стоит за производством авторитета, не релевантна с политической точки зрения. Без разницы, каким образом достигнуто какое-то решение по поводу устройства труда, оно все равно авторитарно в некотором роде, потому что это решение, которое должно распространяться на всех. Интересно, как это можно связать с прогрессизмом, потому что ведь во многом это достигается за счет того, что некоторые пределы возможных договоренностей обуславливаются горизонтом технологического прогресса. Грубо говоря, вы не можете договориться, даже авторитарно о
Денис Сивков: Окей, есть неумолимое движение пролетариата. И есть смысл истории. Реакция — это ведь тоже часть смысла истории, диалектически необходимое социальное противоречие, которое позволяет истории двигаться. Как только последнее противоречие, последняя реакция, будет уничтожено, воцарится болото спокойствия. В чем фишка Энгельса? В том, что он говорит: ребят, все хорошо, есть пролетариат, есть реакция, но блин, проблемы с паром. Вот непонятно. Можно ли демистицировать пар окончательно? Возвращаясь к тому, с чего Леня начал, с этого напряжения. Вот есть пар, который вообще-то не человечен и не управляем. Потому что смотрите, весь пафос этого текста — да, окей, ребята, вы думаете, что вы можете удалить авторитет, но есть такие силы, они разные, они по-разному здесь связаны: есть авторитет революции, есть авторитет тех, кто эту революцию делает, а есть авторитет пара. Собственно говоря, этот авторитет не устраним. Вы не можете от него избавиться. Я бы вот так сказал бы.
Лёня Юлдашев: А от самого пара вы не хотите избавляться, да?
Денис Сивков: Мне кажется, это очень слабым местом. Все футуристические экологические программы последних 20 лет говорят о том, что в Америку вы не сможете летать. Вы сможете, например, за 8 лет добраться на очень модифицированном, но чистом клипере. То есть мы к прялке будем возвращаться и к подобного рода технологиям более простым и более чистым — не потому, что мы какие-нибудь вообще, а просто иначе все просто погибнут от жары, просто умрут буквально. Если мы читаем Энгельса сегодня, то, конечно, это очень слабое место, что движение возможно только вперед. Есть реакция, но реакция нужна, как кажется, диалектическая только для того, чтобы мы еще раз продвинулись дальше: неумолимое движение пролетариата.
Яна Григорова: Может быть, у меня какое-то такое классическое прочтение этого текста, но я бы не стала все сводить к природе. Хочется рассмотреть
Полина Колозариди: Мне кажется очень важной реплика Яны. Она возвращает нас к упущенному сюжету, связанному с материализмом Энгельса. Энгельс — материалист. Нам вообще отсюда, мне кажется, сложно это понять. Мне очень сложно. Для Энгельса, насколько я понимаю, процесс трансформации фабрик в большие фабрики, переорганизация труда и все остальное, устроен в куда большей связи с изменением мира вообще. Мне кажется, что один из ответов несколько в сторону от того, что мы обсуждаем, он как раз то, что вытащили в
Лёня Юлдашев: То есть получается, что в этом смысле технический прогресс и революция — это как бы сопоставимые катки?
Полина Колозариди: Об этом Энгельс пишет прямо: «Революция есть несомненно самая авторитарная вещь, какая только возможна. Революция есть акт, которым часть населения навязывает свою волю другой части». Это коллективная воля имеется в виду. Тут нет индивидуальных воль, я так понимаю. Актором там является коллективный агент-партия. Вот.
Алексей Сафронов: Если мы остаемся с тем пониманием, которое было у Энгельса и Маркса, то революция делается большими массами людей, которые просто не готовы жить по-прежнему, которым их условия жизни, сформированные той самой необходимостью, не устраивают и они идут эти условия ломать. Соответственно, если вы с ними, вы помогаете их ломать; если вы не с ними, то они ломают вас. Здесь сама постановка вопроса о революциях мне напоминает, знаете, некоторые ролики на ютубе. Программисты особенно любят рассуждать о плановой экономике и делают это очень операционно. Сидят люди в студии и рассуждают, что будто бы есть такой выбор блюд, — есть анархо-коммунизм, есть либертарианство, есть классический коммунизм, — а я сижу и выбираю эти блюда, что мне кажется вкуснее. Этот подход, мне кажется, очень далек от того, как это происходит, если это начинает реализовываться в действительности.
Денис Сивков: Мне кажется, что, Полина смешивает три разных материализма. Отсылая к тексту Латура «Извините, вы не могли бы вернуть нам материализм?», где он дваматериализма разводит. Есть материализм разных акторов, которые обладают некоторым потенциалом сопротивления друг другу. В этом смысле идеи, и неважные словца, и архивы договоров, которые не опубликовать — они тоже важны. И доводчик, и пар, и план — все, что угодно, имеет значение, будет сильнее или слабее. Это один материализм, это материализм Латуровский и всех STSников. Есть материализм субстанциональный, позитивистский материализм Маркса и Энгельса. Это материализм природы. Есть некая единая субстанция и она, собственно говоря, объективна. Она подавляет возможности отдельно действующих людей, а иногда даже, видимо, и групп. И есть третий материализм, Полина, о котором ты сказала. Это такой аристотелевский эргон — превращение вещи. Когда у нас некая идея в процессе становления становится вещью, когда у нас какое-то количество факторов вдруг преобразуется во
Полина Колозариди: Я внесла материализм, потому что мне казалось, что реплика Яны проясняет нам плотнее конфликт, о котором говорил Леня, и тот способ обозначения конфликта, того, что мы сегодня называем «агентность», типа что влияет — агрегат или я. Мне хотелось подчеркнуть, что и агрегат, и я в случае текста Энгельса — это не индивидуальные сущности, а, как справедливо заметил Дима, Энгельс спорит с анархистами, которые не догоняют большого процесса объективного. И я, откровенно говоря, вульгаризировала материализм. Однако твоя реплика ставит вопрос, на который лично у меня вообще нет ответа. Собственно, связан ли материализм Латура, который позволяет нам отнестись к этому тексту как к материалистическому в нескольких из этих смыслов с материализмами другими? Я, честно, не знаю. Интересно подумать, каким образом это можно понять: или через чтение самого текста, некоторая вдумчивость к словам. Мне кажется, что, скорее, нет, потому что Энгельс сейчас так засел в цивилизационном коде, что он уже просто везде. Мы очень много отсылок можем из него найти. И очень мало тех, которые реально будут соотноситься с ним. Скорее всего, исторический анализ нужно, чтобы это понять. Вот. Про объективность. Очень важный тезис, потому что опять…Черт, Лёня, ты задал гениальный вопрос вообще в начале, конечно. Мне кажется, очень важным здесь, что если разговоры рабочих объективны и движ их объективен или у нас есть возможность сделать его объективным, сказать как бы: к черту все, мы посмотрели «Черное зеркало» и пошли свергать фейсбук. Мы пошли свергли фейсбук. В какой момент реально мы свергли фейсбук, а не Марк Цукерберг по своим каким-то причинам решил его прикрыть? Или не пришло какое-нибудь государство, которое запретило Фейсбук у себя в стране, потом другое запретило у себя в стране? Ну, как бы оно так посыпалось, рассыпалось. Каким образом мы можем с вами сказать, что really мы сейчас с вами договоримся, начитавшись Энгельса что-то сделать, революцию, и будем ли мы революционной силой? Вроде Энгельс говорит, что нет, но при этом он
Денис Сивков: Вернусь к стартовому вопросу нашего обсуждения. Это была рамка латуровского материализма, то есть это материализм, в котором материальность — это сопротивление, а не природа вовсе. Здесь нет никакой субстанциональности. Реальность гетерогенна. Собственно, то затруднение, на которое Лёня обратил внимание, было подано под этим соусом этого материализма. Полина пару раз пыталась сделать другие заходы; все ее заходы были про это — это материализм-становление, материализм-превращение, превращение вещей одной природы в вещи другой природы. Сюда аристотелевский эргон и то, что можно назвать бикамингом у делёзооринтированных персонажей. Мне кажется, что это тоже продуктивный подход, просто мы за него не уцепились, потому что Латура читали больше, чем Делеза и Аристотеля, как кажется. Аристотель же был хитрец. Он не подставлялся и говорил: «ребята, вы понимаете, слово «материя» используется как минимум двояко. С одной стороны, это субстрат, разные материалы, они вообще разной природы и
Лёня Юлдашев: Но, кстати, если бы прочтение через латуровский материализм было верным в контексте логики Энгельса, тогда мы должны сказать, что есть какие-то способы договоренностей, которые могут повлиять на машину или на пар.
Денис Сивков: Рабочие остаются работать, они договорились с паром, потому что им не нужно что-то взамен: пряжа, допустим. Матросы договорились с капитаном, с авторитетом одного, потому что им надо в Америку или куда они там плывут — неважно.
Лёня Юлдашев: То есть получается такая прагматическая история, да?
Денис Сивков: Совершенно, конечно. Но еще раз, это я
Лёня Юлдашев: В чате Алексей Исланов обращает внимание на то, что рабочие могут между собой договориться, что разные машины можно обслуживать в разные часы. Одновременно они могут попробовать договориться с машиной в ее требовательности. Вот мартеновскую печь нельзя остановить, да? Кстати, последнюю мартеновскую печь в России остановили в 2018 году. Здесь оказывается, что машина требовательнее, и договоренности с машиной как бы по существу другие, чем договоренности между людьми.
Денис Сивков: Вот смотри. Если в детстве ты бывал свидетелем эксплуатации автомобилей по-советски, когда у тебя очень ограничены ресурсы… Как это было: ты зачастую едешь на очень плохой машине. Она может сломаться в любой момент. Но тебе надо ехать, и ты едешь. У тебя отваливается, но ты доезжаешь. У меня было все детство такое. Я все детство толкал «запорожец» папин, потому что он все время ломался. Тебе надо ехать, ты такой: давай. И
Алексей Сафронов: Собственно, возврат к прялке возможен, если мы готовы отказаться от массового дешевого производства. Здесь есть предпосылка, которую Энгельс не проговаривает, потому что она для него самоочевидна: что дешевые вещи лучше, что все хотят дешевых вещей и что нам нужно этих вещей много. Если мы эту предпосылку принимаем, мы попадаем в это вот давление технического прогресса. Он говорит, что если хочешь много дешевых вещей, тогда, будь добр, укрупняй фабрики, ставь машины и т.д. Я сейчас вспоминаю феномен крафтового пива и прочие штуки. Можно представить себе мир коммунизма, где уже столько всего напроизводили, что люди начинают беситься с жиру и говорить: «мы не хотим дешевых джинс, которые пошиты на фабрике, мы хотим индивидуальный пошив у мастера. Причем мы даже не хотим, чтобы это делал специальный портной, а хотим, чтобы нам шил музыкант. Пусть он будет шить восемь месяцев, но просто это круто. Я скажу всем, что мне музыкант из Федосеевского оркестра джинсы сшил». Пример абсолютно от балды, но он показывает, что у Энгельса эта предпосылка настолько самоочевидна, что не проговаривается. Если мы ее отменяем — это тот момент, о котором Полина говорила: важность договорных обстоятельств, материальность договорных обстоятельств. И если мы говорим, что нам много дешевых вещей не нужно по
Денис: Было движение arts&crafts Уильяма Морриса. Идея была в том, что от капитализма нужно отказаться за счет самостоятельного крафтового производства. Моррис и компания убеждали всех, что вы сами можете делать себе обои, мебель, фурнитуру и прочее. Для этого вам не нужна Икея как раз. И это будет здорово, круто, красиво и вообще — будет хранить тепло ваших рук. Как раз они предлагали не ускорять историю, не возвращаться назад, а несколько затормаживать, потому что капитализм ведет нас, в этом смысле, массовое производство ведет нас в пропасть. Но у Энгельса этого нет, мне кажется. У него возврат невозможен. Я просто к тому, что это была альтернативная революционная программа утопическая, но не менее прекрасная: у Морриса, Рёскина и вот этой компании arts&crafts.