Когда и сказать нельзя
Поэт не обязан и не может понимать и осознавать всë то, что ему показывают. Он может об этом только говорить «языками ангельскими», как апостолы, которые вещали волю Бога, минуя человеческое понимание. Тогда получается встреча двух вестников: «Ты — тот, кто должен испытать бессловесную муку. Я — тот (та), кто расскажет…».
Екатерина Садур «Привилегия касты»

Вообще, если использовать рациональный, или даже научный подход, следует взять и все 67 стихотворений разложить по кучкам. И структурировать их по ключевым словам: упоминаниям света, цвета, неба, появления «его/еë», посмотреть, в какой трети сборника происходит катарсис и происходит ли он, посчитать аллюзии, аллитерации…
Зачем я это пишу, я же так не делал. Потому что поэзию даже самый искушëнный читатель понимает озарением, а авторский замысел схватывает интуитивно. Да, бывают и
Птицы стали говорить…
Фюрдинанд — это область выше здешних…
На каком языке говорит? На птичьем. Куда зовëт, рассказывая, и зовëт ли? Это нам и предстоит узнать. И мы ходим в этом мире, сознавая, что он сад, понимая, что мы глина в этом саду, что в существующей перекличке птиц между небом и человеком нет главного. Питер Фогельзанг (ещë одна отсылка к садам — но уже мрачная и пугающая) предположительно художник и уж точно творец, пробуждающий память. Цвет — белый — «белому как свет столбу» — жизнь. Страна, где живут Человек и Птицы. Поднимаются к небу — как и положено — падают в яму. И возрождаются, преобразуясь. И появляется Она:
она дотрагивается до света
и пылинки плавают вокруг пальца
Она — мечта? Она пока не проявлена, но будьте уверены — проявится. Пытаясь войти в город — к ней, в эти таинственные сады по глиняным черепкам, проваливается в сон. И во сне — преодолев (что?), получив опыт сострадания — взмывает над городом, в котором Она, сады, птицы, глина…
И птицей становится и видит «иное небо»:
о чëм поëт вакуум
там, далеко?
чëрные, непреложные
нечеловеческие эскадрильи площадей.
непримиримые, неумирающие,
ледяные, ледяные… выйди, вылейся
И возвращаясь, преображëнный, помнит чувство иного мира, близость к саду, и круговорот, хоровод сна и яви продолжается. Случается разговор:
собеседник в терновой беседке
говорит
что ни в чем виноват
проникает вода и струится
и вы оба по горло в реке
капля крови дробится
дробится
на одном и родном языке
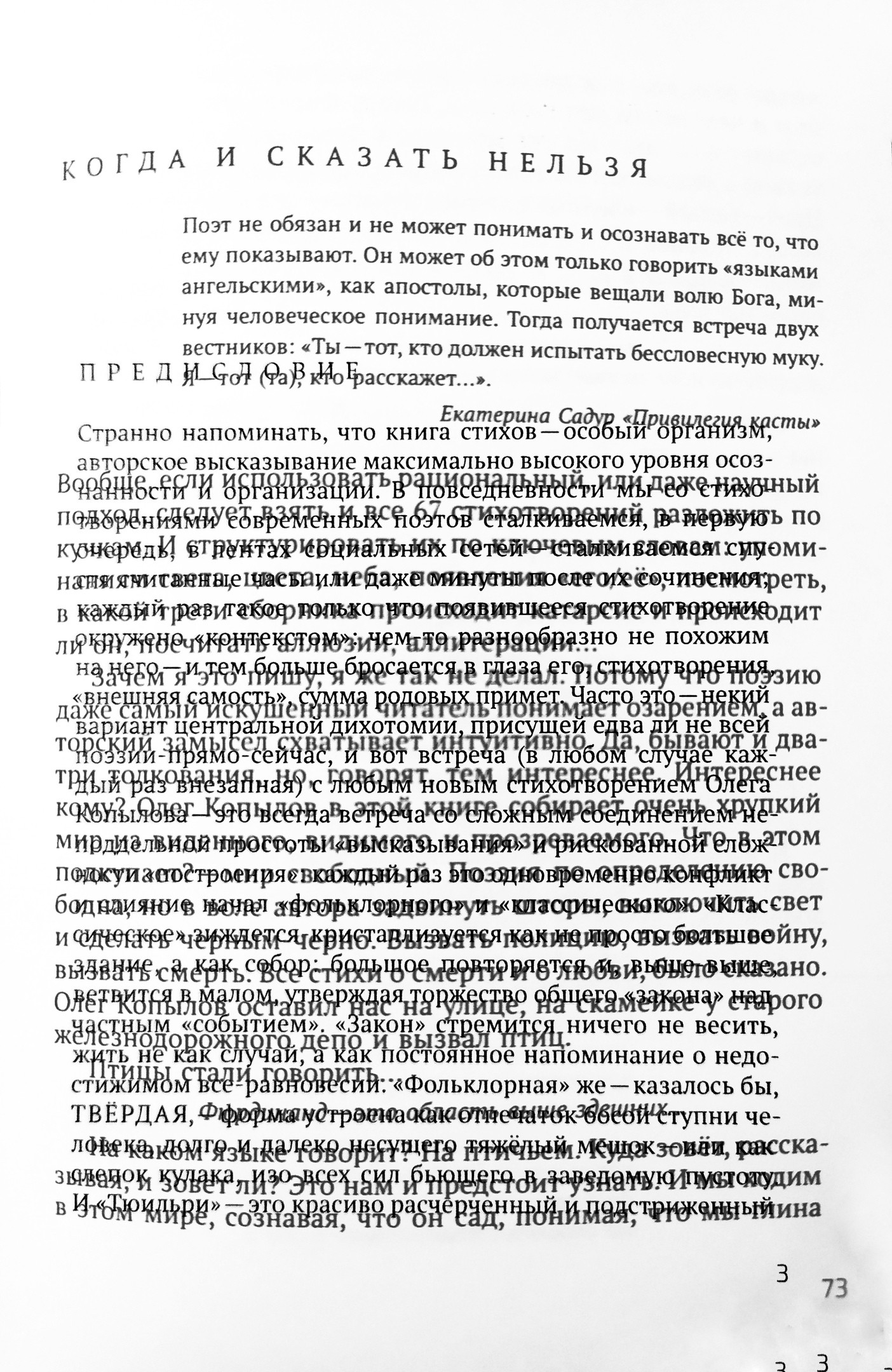
На «одном и родном языке» узнаëт, что для всех уготована весна:
И
остаются:
воздух.
движение льда.
весна.
И в попытке изменить жизнь проявляется человеческое, слишком человеческое…
а мы идем туда же,
где хор поет: «распни».
мы лучше, выше, краше,
чем страшные они.
а я иду на лыжах,
хоть лыж и не видать.
а хор поëт: «мы выше,
чем ваша благодать».
И открывается одно — единение с миром и смотришь снова, стремишься к небу. Город реальный проступает, пугает, а не страшно. Но память.
калачики — кирпичики — цветочки.
облупленные венчики
расточки.
в который век глядит твоя изнанка,
где каменная пляшет обезьянка,
где солнечные выжженные точки,
натруженные лагерные тачки
обломанная перьевая ручка
рисует возле речки
человечеков
нечаянна балетная заплачка
и солнечные плечики навечно.
Мир тварный, глиняный, черепичный можно верой преодолеть, возвращаются птицы с вестью о лете (смена времëн года — в начале была зима — это книга-круговорот, помним!) пересекаем мост и встречаем самое главное, центральное утверждение:
И сырая ртуть
И серая сныть
В любом предлоге сквозя
Обрекают грудь
На
Но вот разлюбить нельзя
Никогда ни за что нельзя разлюбить
Когда и сказать нельзя
И наступает ясность, ясность момента, ясность жизни, вокруг кружатся искры, цветы, свет, вино, звезда и (помните, я говорил, что Она проявится?) — Девочка в этом мире!
иней, иней, твои войска
над нами не властны, пока
маленькой девочки катит рука
солнечный шар за бока.
А дальше знаете что? Дальше происходит примирение с миром через любовь. А если такое происходит, то отменяется смерть. Вот о чëм эта книга.
