«Толстой и свобода»: доклад Андрея Зорина на открытии семинара по интеллектуальной истории
На протяжении своей жизни Лев Толстой пережил несколько глубинных духовных трансформаций. Он неоднократно изменял свои представления о религии и церкви, войне и мире, любви и семье, нации и патриотизме. Но в одной интимно важной для него сфере его убеждения не менялись никогда.
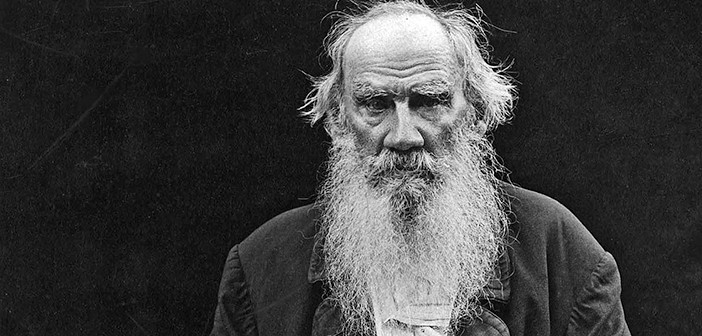
Семинар по интеллектуальной истории А.Л. Зорина на базе Московской Высшей Школы Социальных и Экономических Наук (МВШСЭН) призван осмыслить функции историко-филологического знания в современном контексте гуманитарных и социальных наук. Семинар проводится раз в месяц, как правило, в третий вторник месяца.

Я начну с «методологии», со своего подхода к проблеме. — То, что вы сегодня услышите, не имеет отношения ни к истории понятий, ни к изучению политического языка. Я буду говорить не столько об употреблении слова «свобода» или его понимании у Толстого, сколько о способах переживания свободы. О том, как ощущались и свобода и несвобода/связанность/подчиненность. Я буду пользоваться материалами самого различного происхождения: художественными произведениями, трактатами и дневниками Толстого, свидетельствами современников.
Главная задача — ухватить природу его переживания: что значила свобода в интеллектуальной, эмоциональной и экзистенциальной проблематике Толстого. Хотя, когда речь идет о Толстом, отделить одно от другого совершенно невозможно.
5 СЕНТЯБРЯ 1878 ГОДА
Те, кто немного знает биографию Толстого, понимают, какого масштаба перелом он в этот период переживает. Только что окончена «Анна Каренина», Толстой проходит религиозное обращение и отказывается от художественного творчества. Потом он к нему вернется, но в ту пору его отказ переживается как окончательный. Происходит полный пересмотр жизненных ориентиров.
В эту пору Толстой задумывается над разными вариантами автобиографии, один из которых — знаменитую «Исповедь» — он доводит до конца.
Однако именно 5 сентября 1878 года были написаны наброски, которые называются «Моя жизнь». Они представляют собой разрозненные фрагменты из детских впечатлений Толстого — дальше он не пошел. Комментаторы академического собрания сочинений считают, что вся работа свелась к одному дню.
Я полностью процитирую первый кусок этого текста, в котором Толстой говорит о своем первом жизненном впечатлении.
_________________
Вот первые мои воспоминания. Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Надо мной стоят нагнувшись кто-то, я не помню кто, и все это в полутьме, но я помню, что двое, и крик мои действует на них: они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (то есть то, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком противным для самого меня, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы и жалость над самим собою. Я не знаю и никогда не узнаю, что такое это было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдирал руки или это пеленали меня, уже когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи, собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было первое и самое сильное мое впечатление жизни. И памятно мне не крик мой, не страданье, но сложность, противуречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и меня мучают. Им меня жалко, и они завязывают меня, и я, кому все нужно, я слаб, а они сильны.
Л.Н. Толстой «Моя жизнь» (1878)
_________________
Здесь, как мне кажется, нет материала для психоаналитической интерпретации. Это не
Чувство связанности и несвободы — самое первое впечатление жизни для Толстого.
Возможно, самое существенное здесь то, что связывающие его любят и делают это из добрых намерений, их жестокость — это жестокость заботы. Происходит подавление личности чужой заботой и беспокойством за твое благополучие. Это опека и давление,
В 1862 году Софья Андреевна Берс дала 34-летнему Толстому прочесть свою повесть «Наташа», сыгравшую важную роль в развитии их отношений. Толстой был страшно травмирован тем, что его будущая жена отметила в главном герое, прототипом которого был Л.Н., «переменчивость» его мнений. Ну, и еще дурную наружность.

Толстой действительно менял свои точки зрения даже по самым фундаментальным вопросам. Менялись его взгляды на любовь и семью, на мир и войну, на народ, патриотизм, на религию, на предназначение человека. Ответы на каждый из этих вопросов подвергались резкому и глубокому пересмотру.
Но по одной — «ядерной» — теме своей жизни позиция Толстого не менялась никогда. Это категорическое непризнание любой власти, мучающей человека. В том числе и власти, продиктованной и мотивирующей себя заботой о человеке. Власти, из объятий которой невозможно вырваться.
Непризнание легитимности каких бы то ни было форм власти составляло основу мировоззрения Толстого. Весь комплекс толстовских идей, в принципе, выводим из этого монументального неприятия власти. Оно становится центром его анархического миросозерцания, которое путеводной нитью проходит через всю жизнь.
УЧИТЕЛЬ
В 50-е годы, вернувшись из заграничных путешествий и впервые отойдя от литературного творчества, Толстой погружается в педагогическую деятельность. Яснополянская школа становится центром его занятий: он учит крестьянских детей, издает журнал «Ясная поляна» и пр. В педагогический статьях Толстого отражены его базовые подходы к этой деятельности. Он учитель, а это par exellence позиция, исходящая из авторитета.
_________________
Преподавание и учение суть средства образования, когда они свободны, и средства воспитания, когда учение насильственно и когда преподавание исключительно, то есть преподаются только те предметы, которые воспитатель считает нужными. Истина ясна и инстинктивно сказывается каждому. Сколько бы мы ни старались сливать раздельное и подразделять неразделимое и подделывать мысль под порядок существующих вещей — истина очевидна.
Воспитание есть принудительное, насильственное воздействие одного лица на другое с целью образовать такого человека, который нам кажется хорошим; а образование есть свободное отношение людей, имеющее своим основанием потребность одного приобретать сведения, а другого — сообщать уже приобретенное им. <…>
Воспитание есть возведенное в принцип стремление к нравственному деспотизму. Воспитание есть, я не скажу выражение дурной стороны человеческой природы, но явление, доказывающее неразвитость человеческой мысли и потому не могущее быть положенным основанием разумной человеческой деятельности — науки. <…>
Мне не хочется доказывать то, что я раз уже доказывал, и то, что слишком легко доказать, что воспитание, как умышленное формирование людей по известным образцам, — не плодотворно, не законно и не возможно.
Здесь я ограничусь одним вопросом. Права воспитания не существует. Я не признаю его, не признает, не признавало и не будет признавать его все воспитываемое молодое поколение, всегда и везде возмущающееся против насилия воспитания.
Л.Н. Толстой «Воспитание и образование» (1862)
_________________
Толстой категорически противопоставляет образование воспитанию. Если образование вещь легитимная, правильная и нужная людям, то воспитание — это насилие над личностью. Потому что ученик — это сознательная личность, человек, который сам знает, чему ему надо и чему он хочет учиться.
Воспитатель — это тот, кто заботится. Он желает воспитываемому добра. Но ни превосходство в знаниях, ни превосходство в возрасте, ни нравственное превосходство не дают никому основания считать, что он имеет право учить другому человеку, каким тот должен быть.
Образование основано на потребности одного человека свободно делиться своими знаниями, а другого — свободно их получать.
Известно, что в Яснополянской школе были свободный доступ и свободный выход. Ученики могли приходить и уходить тогда, когда они считали нужным (тем более, крестьянским детям надо было помогать родителям по хозяйству), они учились без программы на основе свободных разговоров с учителем о том, что оказывалось интересным и важным для самих детей.
В 1850-х гг. педагогического сообщества еще не существовало. Позднее — когда в 1870-х гг. Толстой возвращается к педагогике — уже возникла целая индустрия производства учителей. Земская и Университетская реформы дали свои плоды. Толстой выступает против этой индустрии с тех же позиций: кто вам дал право считать, что вы знаете, чему учить крестьянских детей?

Толстой был сторонником костомаровской модели университета, т.е. только публичные лекции и никаких занятий или экзаменов. Причем Н.И. Костомаров считал, что желательны именно платные лекции. Ибо если человек заплатил деньги, то ему это точно нужно и интересно.
Толстой передает разговор с одним профессором (вероятно, это Б.Н. Чичерин), который говорит, что то, что предлагает Костомаров, это не реформа университетов, а их уничтожение. Толстой пишет: и тем лучше. Университет как таковой должен быть уничтожен, потому что это форма насилия.
В начале 60-х гг. у Толстого возникает огромное желание снова вернуться к литературной деятельности. Вполне возможно, что катастрофические обстоятельства, которые заставили Толстого закрыть школу, дали ему внутреннее основание и возможность вернуться к литературе.
ГОСУДАРСТВО И МИР
Летом 1862 года в его усадьбе проходит обыск: ищут пиктографы, прокламации Герцена и т.д. Толстой, находившийся на лечении в Самарской губернии, узнает об этом на теплоходе по пути обратно. Как впоследствии он пишет своей двоюродной сестре Александре Андреевне Толстой: «Я часто говорю себе, какое огромное счастье, что меня не было. Ежели бы я был, то верно бы уже судился, как убийца».
Здесь очень интересная психологическая констелляция. У Толстого ничего не нашли, но прочитали дневники, которые он не показывал никогда и никому, насмерть перепугали его престарелую тетушку Т.А. Ергольскую, залезли с сетями в пруд. Толстой взбешен этими обстоятельствами. Целью было как раз преодоление социального разрыва между сословиями, который угрожал самому существованию России — и он был оскорблен как человек, который точно знает, что никогда не являлся сторонником революционной деятельности, и как патриот, и как анархист, и не в последнюю очередь как аристократ.
Дворянская элита зиждилась на двух позициях: наследование имущества и неприкосновенность личности. Эти права, естественные для европейской элиты, побуждали русское дворянство моделировать себя по европейскому образу.
Толстой уязвлен, и первое, что ему приходит в голову в такой ситуации, — мысль оставить Россию. Он пишет: «Я и прятаться не стану, я громко объявлю, что продаю именья, чтобы уехать из России, где нельзя знать минутой вперед, что меня, и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут, — я уеду.…». Но вместо отъезда из России он запирает въезд на Поляну и вновь начинает писать.
Этот опыт в абсолютной мере увязан с базовым первым переживанием Толстого. Запершись, он начинает писать свою главную прозу — роман «Война и мир» — и здесь он сталкивается с фундаментальной исторической проблемой. Он пишет роман о войне — но возможна ли война без государственной власти?
Толстой еще не стал убежденным пацифистом. Он признает, что вооруженное сопротивление захватчикам — это природная, естественная человеческая реакции. «Война и мир» исполнена сильных патриотических чувств. В ней идея войны еще не дискредитирована. Позднее Толстой будет писать, что лучше подчиниться любым захватчикам, но в армию не идти и не воевать, но в эту пору ему еще важно сочетать идею легитимности защиты собственной страны с идеей того, что государство, иерархия и власть не нужны, враждебны и не соответствуют природе человека. Здесь, возможно, корень толстовской философии истории.
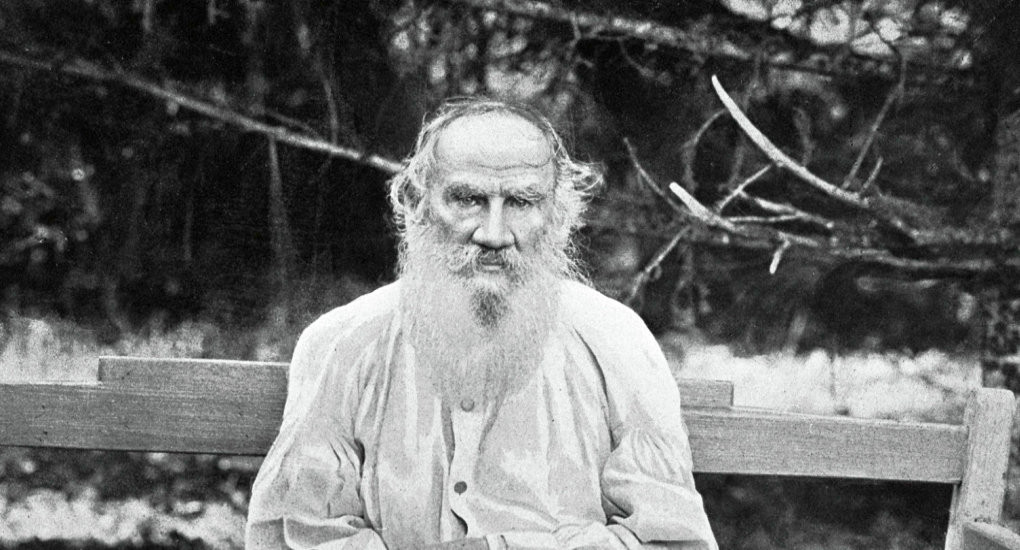
С точки зрения Толстого, государство, государственная власть, цари и монархи никакой роли не играют. Люди идут на войну, убивают захватчиков или идут захватывать чужие страны по собственной воле, а государственная власть только оформляет это волю миллионов людей.
В тот момент, когда Толстой приходит к пацифистской идее нелегитимности какого-либо насилия, эта, как и, впрочем, любая другая философия истории оказывается не нужна.
После окончания «Войны и мира», в которой создана утопия нации как единства дворянства и крестьянства, Толстой берется за время, когда произошел разрыв между этими сословиями. Он начинает роман о Петре I. И тут встает перед парадоксом: если Петр I победил, значит правота и правда были на его стороне, каким бы чудовищем он ни был. Значит, победа Петра становится результирующей волей миллионов подданных России.
На следующем этапе своей писательской карьеры Толстой теряет эту веру. Власть перестает быть даже внешним выражением глубинной воли народа и оказывается только институтом тотального насилия.
_________________
Но кроме того, читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли (только об этом и речь в истории), невольно приходишь к вопросу: что грабили и разоряли? А от этого вопроса к другому: кто производил то, что разоряли? Кто и как кормил хлебом весь этот народ? Кто делал парчи, сукна, платья, камки, в которых щеголяли цари и бояре? Кто ловил черных лисиц и соболей, которыми дарили послов, кто добывал золото и железо, кто выводил лошадей, быков, баранов, кто строил дома, дворцы, церкви, кто перевозил товары? Кто воспитывал и рожал этих людей единого корня?
Народ живет, и в числе отправлений народной жизни есть необходимость людей разоряющих, грабящих, роскошествующих и куражащихся. И это правители — несчастные, долженствующие отречься от всего человеческого.
Л.Н. Толстой. Дневники (4 апреля 1870 года)
_________________
В конце 70-х годов возникает замысел романа «Сто лет». В нем Толстой хочет охватить всю историю России от Петра до Александра I, его действие должно параллельно проходить во дворце и крестьянской избе. Был еще один замысел — роман о декабристах, в котором декабристы встречаются с ссыльными крестьянами в Сибири. Вместе с уже написанными «Войной и миром» и «Анной Карениной» эти два романа должны были составить монументальную тетралогию, охватывающую историю России за 200 лет.
Толстой довольно быстро отказывается от этих замыслов по той причине, что на новом повороте его мысли государство перестают быть даже дурным выражением народной жизни. Если сначала, читая «Историю» Соловьева, Толстой писал:
_________________
Народ живет, и в числе отправлений народной жизни есть необходимость людей разоряющих, грабящих, роскошествующих и куражащихся. И это правители — несчастные, долженствующие отречься от всего человеческого.
Ibid.
_________________
…то теперь он убежден, что нравственные чудовища, которые стоят во главе любого государства, перестают служить для него «отправлением народной жизни» и становятся просто бандой разбойников, насильников и грабителей. Замысел «Ста лет» теряет смысл, потому что писать историю страны это одно, а писать историю бандитской шайки совершенно другое.
Но с потерей интереса к истории дворца теряется и интерес к истории крестьянской избы, потому что никакой истории не происходит. Это жизнь вне истории: люди живут изо дня в день, вообще в истории не нуждаясь.
ИСТОРИЯ И ЧЕЛОВЕК
Ненависть Толстого к истории (во всех смыслах этого слова) хорошо известна. Когда начинается история, начинается завоевание: приходят грабители, убивают, увозят пленных и пленниц, берут в рабство и т.д. Пока люди живут нормальной жизнью, никакой истории нет.
Когда история берет верх, она детерминирует нашу судьбу. Она указывает нам место, в котором мы находимся. И это не только судьба страны, но и личная судьба каждого человека.
В романе «Война и мир» есть эпизод встречи Пьера Безухова и Наташи Ростовой, где Пьер с горечью говорит о смерти Элен и вспоминает о тяжелом чувстве, с которым он воспринял это известие. — Пятнадцатью-двадцатью страницами выше написано, как Пьер и одним месяцем жизни раньше ворочался в постели, вспоминал, что жены его уже нет и говорил себе: «Господи, как хорошо!».
Что произошло? Он обманывает Наташу? Конечно, нет. — Он ничего уже не помнит. Он не помнит, что он чувствовал месяц назад, потому что он другой человек. Его собственный жизненный опыт потерял над ним власть. Он стал другим.
Это толстовская психология, в которой поступки и мысли человека не определяется его характером и его прошлым. Хочется обратить внимание на связь этой идеи с чувством свободы:
Человек не детерминирован даже собой лично.
Поразительный факт, связанный с Толстым, это та неизменная радость, с которой он фиксирует ухудшение собственной памяти. Для него это всегда прекрасное, радостное и освобождающее событие.
_________________
Как же не радоваться потере памяти? Все, что я в прошедшем выработал (хотя бы моя внутренняя работа в писаниях), всем этим я живу, пользуюсь, но самую работу — не помню. Удивительно. А между тем думаю, что эта радостная перемена у всех стариков: жизнь вся сосредотачивается в настоящем. Как хорошо!
Л.Н. Толстой. Дневники (23 октября 1910)
_________________
Человек перестает быть рабом прошлого, в том числе своего собственного. Он, как и страна, как общество, сформирован собственной историей. Он и есть собственная история. Но помнить о ней не нужно, так же как не обязательно народу знать историю, которая сформировала его таким, какой он есть.
Знаменитая морально-философская формула Толстого «Делай, что должно, и будь, что будет» связана с тем, что человек перестает предсказывать будущее и становится независим от него. В дневниковых записях Толстого повторяется знаменитая аббревиатура: ЕБЖ («если буду жив»). Это жизнь в настоящем, форма независимости от прошлого и отсутствия страха перед будущим.
АНАРХИЗМ И ПРАВО
Анархизм Толстого лишь в малой степени направлен против деспотизма. По Толстому, правовое государство (не деспотическое и заботящееся о своих гражданах) в
Такая позиция характерна и для раннего и для позднего Толстого. Есть знаменитая парижская запись 1857 года:
_________________
<…> они верят, что в этой лжи может быть более или менее зла, и действуют сообразно с этим. И прекрасно, верно, нужны такие люди. Я же во всей этой отвратительной лжи вижу одну мерзость, зло и не хочу и не могу разбирать, где ее больше, где меньше. Я понимаю законы нравственные, законы морали и религии, необязательные ни для кого, ведущие вперед и обещающие гармоническую будущность, я чувствую законы искусства, дающие счастие всегда; но политические законы для меня такая ужасная ложь, что я не вижу в них ни лучшего, ни худшего.
Л.Н. Толстой. Письмо В.П. Боткину (5 апреля 1857 года)
_________________
Такого его первое впечатление от столкновения с правильным и хорошо организованным европейским государством.
В поздние годы, полемизируя с революционерами, Толстой пишет, что сочувствует им как людям имеющим убеждения и искренне болеющим за бедных, но его категорически не устраивает идея, что на месте разрушенного государства можно построить какое-нибудь другое, а насилие можно использовать для улучшения общественного строя.
Когда Сергей Львович Толстой, сын Л.Н., спрашивал П.А. Кропоткина, почему тот считает, что после революции будет лучше, тот отвечал, что люди лучше форм. И что если формы разрушить, то люди сами встанут в более правильные формы. Лев Николаевич не верил в это и писал:
_________________
Под свободой революционеры понимают то же, что под этим словом разумеют и те правительства, с которыми они борятся, а именно: огражденное законом (закон же утверждается насилием) право каждого делать то, что не нарушает свободу других. Но так как поступки, нарушающие свободу других, определяются различно, соответственно тому, что люди считают неотъемлемым правом каждого человека, то свобода в этом определении есть не что иное, как разрешение делать всё то, что не запрещено законом; <…>
Л.Н. Толстой. Предисловие к статье В.Г. Черткова «О революции» (1904)
_________________

Толстой довольно точно воспроизводит базовую идеологию правового государства: свобода — это когда люди имеют право делать то, что не запрещено законом, и то, что не нарушает свободу других. Но он не принимает этой позиции, потому что закон как таковой не является для него легитимным. Люди не имеют права писать законы, которым другие обязаны подчиняться.
_________________
<…> свобода, по этому определению, есть одинаковое для всех, под страхом наказания, запрещение совершения поступков, нарушающих то, что признано правом людей. И потому то, что по этому определению считается свободой, есть в большей мере случаев нарушение свободы людей.
Так, например, в нашем обществе признается право правительства распоряжаться трудом (подати), даже личностью (военная повинность) своих граждан; признается за некоторыми людьми право исключительного владения землей; а между тем очевидно, что эти права, ограждая свободу одних людей, не только не дают свободу другим людям, но самым очевидным образом нарушают ее, лишая большинство людей права распоряжаться произведениями своего труда и даже своей личностью. Так что определение свободы правом делать всё то, что не нарушает свободу других, или всё то, что не запрещено законом, очевидно не соответствует понятию, которое приписывается слову «свобода».
Оно и не может быть иначе, потому что, при таком определении понятию свободы приписывается свойство чего-то положительного, тогда как свобода есть понятие отрицательное. Свобода есть отсутствие стеснения.
Л.Н. Толстой. Предисловие к статье В.Г. Черткова «О революции» (1904)
_________________
Законодательно обеспеченная свобода невозможна, потому что она может быть гарантирована только институтами насилия. Отсюда же и толстовское отрицание собственности.
Позиция Толстого на собственность были менее однозначными, чем принято считать. Он всегда и категорически отрицал земельную собственность, но полагал, что человек имеет право располагать продуктами собственного труда: если ты из бревна сделал ложку, то эта ложка является твоей собственностью. Но кто может гарантировать эту собственность?
Обеспечение гарантий собственности требует государства, законов, судов, а это самая худшая форма насилия над личностью.
Для Толстого преступник менее безнравственный человек, чем тот, кто отправляет его в суд, выносит приговор и казнит.
В связи со всем этим отношение Толстого к трудовой собственности не однозначно. С одной стороны, она составляет основу самосознания человека, с другой — к ней нельзя прилепляться, потому что нельзя гарантировать. А что делать с вором? Только уговаривать. И, как пишет Толстой, чем больше людей будут уговаривать, тем больше надежды уговорить. А чтобы не стать рабом даже такой примитивной собственности, лучше от нее отказаться.
Толстой, как хорошо известно, был руссоистом. В молодости он хотел носить медальон с портретом Руссо. Знаменитая фраза Руссо, с которой начинается «Общественный договор»: «Человек всюду создан свободным, и везде он в оковах». объясняет парадоксальное сходство исходной точки рассуждений Толстого с первой фразой Американской декларации независимости: «Люди созданы равными и поэтому имеют право на свободу и стремление к счастью». И то, и другое имеет общие руссоистские корни.
Американские конституционалисты стремились выстроить систему, гарантирующую права человека, которые не нарушают аналогичных прав других людей. В конституционном обществе законное правительство — избранное и легитимное наделено общей волей, которой должен подчиняться каждый индивид.
Толстой делает прямо противоположные выводы. Для него главное не перейти от апологии индивидуальной свободы к практике подавления. Отсюда вытекает философия ненасилия: добровольный отказ от собственности, отказ от сословных привилегий. Даже детей лучше не иметь, потому что приходится заботиться об их будущем.
Дети — это тоже форма контроля над настоящим со стороны будущего. Толстой противопоставляет «исключительную» любовь к своей семье «всеобщей» любови ко всем, которая освобождает человека.
СВОБОДА
Что сделать человеку, чтобы чувствовать себя свободным в условиях этого гигантского неравенства «я слаб, а они сильны»? Мир, который тебя связывает и давит бесконечно силен и никто не имеет ресурса ему противостоять.
Единственная возможная форма свободы, по Толстому, реализуется в акте отказа, ухода и разрыва.
Человек становится свободен в тот момент, когда он отвергает что-то, прежде имевшее над ним власть. Биографию Толстого можно трактовать как историю бесконечных отказов, не всегда, впрочем, оказывавшихся окончательными. Порой сила инерции возвращала его назад: к литературе, педагогике, семье… Толстой уходил из дома и возвращался снова.
Запись Толстого по поводу обстоятельств его окончательного ухода из дома 28 октября 1908 года:
_________________
28 октября. [Оптина пустынь. ] Лег в половине 12. Спал до 3-го часа. Проснулся и опять, как прежние ночи, услыхал отворяние дверей и шаги. В прежние ночи я не смотрел на свою дверь, нынче взглянул и вижу в щелях яркий свет в кабинете и шуршание. Это Софья Андреевна что-то разыскивает, вероятно, читает. Накануне она просила, требовала, чтоб я не запирал дверей. Ее обе двери отворены, так что малейшее мое движение слышно ей. И днем и ночью все мои движенья, слова должны быть известны ей и быть под ее контролем. Опять шаги, осторожное отпирание двери, и она проходит. Не знаю отчего, это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел заснуть, не могу, поворочался около часа, зажег свечу и сел. Отворяет дверь и входит Софья Андреевна, спрашивая «о здоровье» и удивляясь на свет, который она видит у меня. Отвращение и возмущение растет, задыхаюсь, считаю пульс: 97. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать.
Л.Н. Толстой. Дневники
_________________
Это повторение того же самого, что произошло в 1862 году, — лезут в его бумаги. И повторение более раннего первого впечатления, — его контролируют под видом любви и опеки. Ему хотят сделать лучше, и это вызывает нестерпимое отвращение. Следует финальное решение уйти.

Есть статья Бунина об уходе Толстого, где говорится, что его вел животный инстинкт смерти: как звери уходят умирать… В недавней биографии Толстого Павла Басинского, напротив, написано, что Толстой ушел из дома, потому что хотел жить и чувствовал, что атмосфера дома сводит его в могилу.
Обе эти трактовки кажутся мне перпендикулярны к главному побуждающему импульсу, двигавшему Толстым. Потому что на первом месте был уход. Что с ним будет завтра — совершенно второстепенный вопрос в сравнении с тем, что отсюда надо уйти немедленно.
В биографии Толстого, принадлежащей его любимой дочери и главной духовной наследнице Александре Львовне, написано, что его последними словами были «Сережа… истину… я люблю много… я люблю всех…».
Едва ли Александра Львовна кого-то хотела ввести в заблуждение, просто она не была близко к постели, когда ему было совсем плохо. Последние слова Толстого зафиксированы в «Яснополянских записках» Д.П. Маковицкого.
…Толстой уже был в полубессознательном состоянии и ему делали уколы морфина и камфоры для предотвращения остановки сердца. — Все знают, как Толстой относился к медицине. Он специально просил его не лечить, активно возражал против уколов, пока еще был в сознании. Но никто его не послушал. Он был окружен самыми преданными учениками и самыми близкими людьми. — Софью Андреевну не пустили, она ходила вокруг дома.
Невзирая на отчетливо сформулированную волю, ему сделали укол. Последние, зафиксированные Маковицким слова, были: «Я пойду куда-нибудь, чтобы никто не мешал (или не нашел)… Оставьте меня в покое…».
И самое последнее:
«Надо удирать, надо удирать куда-нибудь».
