Ник Ланд. Жажда истребления
Значимый литератор и мыслитель, Жорж Батай, оказал немалое влияние на других французских авторов, таких как Фуко, Деррида и Бодрийяр. Жажда истребления — это первая книга на английском языке, посвящённая Батаю. Впрочем, книга Ника Ланда вовсе не пытается приспособить его тексты для праздного чтения или скомпрометировать их бесцветностью академического дискурса — скорее, она написана в качестве соучастия.
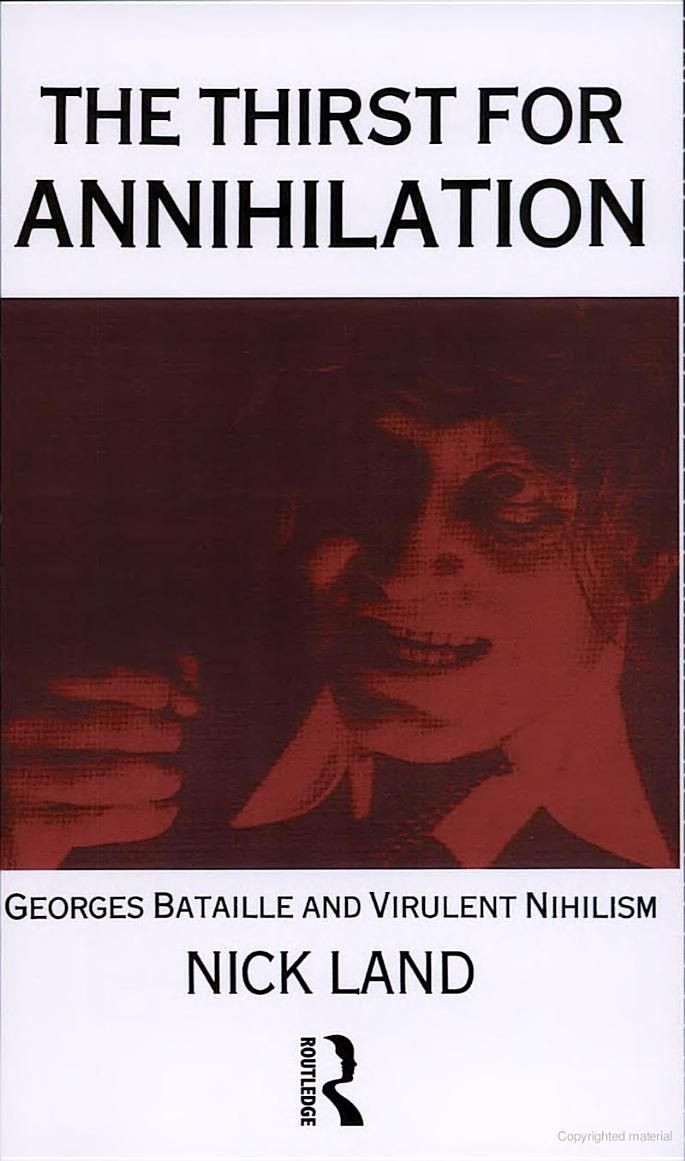
В философии, социологии, психодинамике, политике и поэзии теоретические проблемы выступают только как пробные камни перед глубинами текстуальных жертвоприношений, где слова рассеиваются в неуловимом голосе смерти. Культура современности приговорена к кантианскому наследию с его трансцендентальной философией субъекта, но тексты Батая с яростью прорываются сквозь эти хорошо заученные прочтения, чтобы раскрыть мощные потаённые потоки, которые несут нас навстречу хаосу и распаду — к неистовому рывку наружу, к жажде истребления.
Ник Ланд, чья цель — распространять то, что он называет «вирулентным ужасом» батаевских текстов, пишет с вовлечённостью и живостью, более присущими литературе, чем интеллектуальному исследованию. Эта книга адресована всем, кто интересуется философией влечений, психопатологией девиаций, политической и правовой теорией, историей религии и поэзии. Она также насущна для всех тех, кто очарован сексуальными мучениями или смертью, которую они ошибочно принимают за свою собственную.
Ник Ланд — преподаватель континентальной философии в Уорикском университете, Великобритания.
Жажда истребления
Жорж Батай и вирулентный нигилизм (эссе об атеистической религии)
Вот в чём трагическая глубина художника, в том, что его эстетический инстинкт влечёт его к более удалённым границам, в том, что он не довольствуется близорукостью того, что прямо под рукой, в том, что он утверждает масштабную сущность, которая оправдывает ужасающее, злое, спорное — и более, чем просто оправдывает [N III 575]*.
нет ничего
кроме
невозможного
и это не Бог [III 47]*.
Ноль необъятен.
Предисловие
Словно оставляя себе некую «благую» гарантию, которая также скрывает подозрение в высокомерности, вы часто упрекали меня в том, что вы называете моим «аппетитом к разрушению» [TE 113]*.
Побуждение написать книгу можно проследить до истока в желании поменять отношения, существующие между человеческим существом и его видом. Эти отношения оказываются неприемлемыми и ощущаются как великое несчастье.
Впрочем, в том смысле, что я написал эту книгу, я сознаю беспомощность намерения внести ясность в эту несостоятельность. До определённого момента, желание к предельно ясному человеческому обмену, который избегает общих условностей, становится стремлением к истреблению [II 143]*.
*
Я всегда подсознательно находился в поисках того, что втопчет меня в землю, но земля это также ещё и стена.
*
Прежде всего, автору полагается снабдить свою работу апологией, украсив её позолотой из неизбежности. В конечном итоге, никто не должен привлекать внимания без причины. То, что автор предлагает старомодное предисловие для книги, кажется вполне обычным делом, но это намерение опустошает меня потому, что этот текст был вскормлен на чрезвычайной избыточности, беспомощно хватающейся за ноль. Каждое предложение — это не что иное, как безвозмездность и растерянность; крик, искалеченный и задушенный иронией как минимум наполовину. Каждое обращение, сделанное к имени «Батай», содрогается между претензией и шуткой. Батай. Я ничего не знаю о нём. Его одержимости тревожат меня, его невежество ошеломляет меня, я нахожу его мысль непонятной, абразия* его текстов бессмысленно прорезается через моё косноязычие. В ответ я бормочу, сопротивляясь тревоге, сводя себя с ума при помощи слов. Запертый в клетке с собственными бесплотными галлюцинациями… но по крайней мере это не так… (и даже сейчас я лгу)…
По правде, Батай кажется мне куда в меньшей степени затруднением интеллектуального плана, чем сексуального или религиозного, рассекающим летаргическое самоубийство, к которому мы все приговорены. Воспринимать его тексты невозможно, сопротивляться им бессмысленно. С нездоровым возбуждением, ошеломлённый, но без возможности избавления. Может быть, тошнота? Подобная драматургия тут же вырождается в развлечение (и всё же нас продолжает тошнить, пока мы умираем).
Поэтому я стараюсь убедить себя, что было бы относительно приемлемо написать ясную книгу о работах Жоржа Батая; книгу, которая обсуждала бы его вклад в философскую и литературную культуру двадцатого века во Франции, раскрывала суть его «общей экономики», «базового материализма» и «атеологии», отдавала должное достоинствам его разнообразных прозаических и поэтических находок, рекомендовала его работы как достойные вдумчивого чтения, изучения и рано или поздно взвешенной оценки — по моему мнению, дурную* книгу. Такие книги уже достаточно депрессивны сами по себе, но в случае с Жоржем Батаем всё даже более резко напоминает нечто вроде откровенной порнографии, характеризующей наше современное прочтение Ницше. Преуспеть в написании книги о Батае, какой бы она ни была, это уже нечто гнусное, потому что только в неясных промежуточных пустотах неудачи, которая идёт навстречу контакту, инфекции, и (в предельной форме) безличной* интимности, которую он называет «коммуникацией», она и может существовать. Воссоздание смысла батаевских текстов — это верный путь к его радикальному обеднению. Нелепо надеяться научиться у Батая, как нелепо искать утешения у Ницше. (Батай, впрочем, в некотором смысле более откровенен в том, что касается его собственных уловок).
Нет сомнений, что приручение Батая в качестве подготовки к его комфортному перевариванию культурной машиной капитала является проявлением изощрённой проституции того рода, что он сам бы по достоинству оценил. Изысканная непристойность! Писатель, который пытался помочь нам растрачивать, отложен про запас со всеми остальными в
Не то, чтобы эта книга претендовала на особое расположение, она побиралась по самым глухим трущобам в поисках зацепок, абстинентно ползала на коленях и умоляла академическую среду о ещё большем унижении. С тех самых пор, как стало теоретически очевидно, что наши драгоценные личности являются всего лишь ярлыками для крошек, остающихся в круговороте властно-трудовых либидинально-экономических второсортных отношений, признаки авторской мелодраматичности становились всё менее заметными. Кому какое дело, что думают, знают или теоретизируют «другие» о Батае? Единственное, что остаётся, это попробовать прикоснуться к яркой ударной волне, всё ещё задевающей нас своими текстуальными искрами… по крайней мере, до тех пор пока что-либо ещё может «нас задеть». Где Декарт нуждался в Боге, чтобы разобраться в своих взаимоотношениях с приятелями, обычный человек довольствуется своим телевизором и всеми остальными комфортными каналами псевдо-коммуникации, которыми наша цивилизация так бездумно нас одаривает. Конечно, всё это для нашей собственной безопасности; чтобы очиститься от мерзких признаков заразы. Если открытость другому, обычная коммуникация и незашоренное любопытство — это черты общества изобилия, то ему характерно только стремление к самоистреблению заболеваниями, передающимися половым путём, и нигилистической религией. В таком случае, кажется, что наше общество, несмотря на самые напряжённые усилия, всё ещё не смогло напичкать непроницаемые атомы этим так долго идеализируемым скудоумием. Смелость ещё существует, и только в смелости все мы объединяемся.
*
Сейчас 03:30 утра. Давайте представим, что кое-кто «перебрал» (бледный символ для обозначения всех тех ужасных вещей, которые человек может учинить над собственной нервной системой глубокой ночью) и философия «невозможна» (хотя кое-кто продолжает размышлять, даже испытывая ужас и отвращение). Что значит, для этого момента в реальной истории духа, умереть без следа? Куда его занесло? «Я думал о смерти, которую я представлял похожей на бесцельное блуждание (но блуждание, после смерти, лишается цели без причины — «навсегда») [III 286]*.
Невероятная ясность, морозная и хрустящая в черноте, но парализованная; ютящаяся в
Предмет философии, насколько мысленная медитация над мышлением может его характеризовать, произвольно определяется как спокойное размышление (случаи психопатологии, психиатрии, ненормальной психологии и так далее заведомо не оспаривают этот тщательный отбор, потому что подобные исследования беспокойной мысли производятся — принципиально — без учёта подобных осложнений). Вот почему этот успешно адаптировавшийся, спокойный, сдержанный и продуктивный рассудок монополизировал философскую концепцию мышления тем же образом, каким повсеместная автоматизация раздельного труда выжимает все яркие жесты из социального существования. Моя ненормальная преданность Батаю проистекает из того факта, что никто не сделал больше, чем он для того, чтобы обрушить проход яростных пустот к умиротворённому забвению, и тем самым пробудить монстра в подвале рассудка.
Вытесняемое вовсе не заперто в подвале, оно блуждает в лабиринте, и связано с миром дня и солнца тайной непрерывностью. Клубок сомнений оказывается похож на дверь, катакомбы на препятствие, и
*
Само собой, я потакаю себе, бесчисленным количеством способов. «Я» говорю себе, что в этом случае личное местоимение не справляется с обозначением псевдо-нейтральной позиции комментатора. Это скорее простаивание «батаевской» непрерывности* в ещё более глубинном эпизоде унижения. Ведь как показательно, каким вырождающимся может казаться дискурс, когда он отмечен навязчивой реитерацией абстрактного эго, в которой смешивается высокомерие с
Работы Батая демонстрируют явную привязку к личному местоимению первого лица, и исповедальный тон особенно присущ его более «литературным» работам, хотя он встречается практически в каждом его тексте. Самое очевидное следствие такого устройства — погружение нарративного эго в текст, сплавление голоса и дискурса в поле имманентности и безапелляционное принуждение личности к игре*. Большая часть художественных текстов Батая, опубликованных при его жизни, не только написаны от первого лица (включая «Историю глаза», «Мадам Эдварду», «Невозможное», «Аббата С.», и «Небесную синь»), но в каждом случае оказывается вовлечено более чем одно исповедывающееся лицо — даже если исключить всевозможные сугубо диалогические фигуры — будь это «авторское» предисловие или расслоение повествовательных структур. «Аббат С.», например, включает не менее трёх отдельных голосов первого лица, а временные разрывы в порядке их представления ещё больше усложняют прочтение. В них есть неподконтрольный призыв, состояние изолированности, голос, сопротивляющийся всякому обозначению, инфекция, поэтому чтение Батая — это не вклад в позитивность, а оправдание.
Нищие не облачаются в мантии гордой невозмутимости, скорее, совсем наоборот; никто другой не утопает так сильно в невыносимой индивидуальности, как они. Если нищие так часто прибегают к религии, то это потому, что никогда не будет никого, кто был бы рационально заинтересован в том, чтобы им ответить. Им приходится перенимать традицию безответных стенаний, запечатанных в монашеских кельях. Эти молельщики как никто другой были ошеломлены отголосками смерти Бога, но поскольку и в прозаической реальности для них не нашлось места, они были вынуждены жить со своей безграничной обездоленностью как невыносимой неизбежностью. Что касается меня самого (и Батая тоже), всё намного более комично.
Не подумайте, что я не отзывчивый. Сквозь эти дебри абстрактной идентичности не очень приятно продираться. Худосочный маленький символ случайной индивидуальности — это вечное раздражение; напоминающее всякий раз, что ты сам являешься причиной своего заточения. Изводить эти излияния использованием «я» — это не просто стилистическая погрешность, это пребывание в отвращении, и всё же любые способы избежать этого отдают притворством. Попытаться спрятать шрамы от оков, которые разрушают цельность текста, само по себе значило бы пиршество рациональной автономности, разрывающее текст ещё сильнее, клеймя его ещё более последовательно как раболепное предприятие (из которого эго вознеслось до невидимости). Многое может стать побуждением для написания книги: дилетантство в том случае, когда письмо с самого начала является притворством и аффектацией; профессионализм в случае, когда книга почитается за путь к анонимности (если не напрямик к удобству, сулящему карьерный капитал) — независимости для того, кто заблудился в монологической невменяемости, близкой к солипсизму, или вся-такая-нарочитая покорность того, кто предпочитает направлять других
Всё ещё сильно искушение отречься от положения первого лица, даже несмотря на то, что присущая ему сила разъедающей каталогизации снижает риск самодовольного объективизма или псевдо-коллективизма. Оправдания личности, искусственной автономии, ответственности и идиосинкразической аффектации достаточно отвратительны, чтобы стать причиной определённой тактической безответственности. Измерение судорожной эффективности парализовано просто благодаря чьей-то неприязни. Но чтобы писать о Батае таким образом, недостаточно просто немного абсурдности, предполагающей, как это и делается, что безличности легко добиться. В конечном итоге: «я» невозможно исключить, но можно преподнести в качестве жертвоприношения. Перемешанное в глубине с текстом о Батае, оно будет вынужденно обращаться не к автору, но скорее к тревоге*, жестикулирующей в бездне; к симптому отсутствующего трагического единения.
*
Уже долгое время я нахожусь под впечатлением от стихотворения Батая «Смех» (Rire):
Смейся и смейся
над солнцем
над ожогами
над камнями
над утками
над дождём
над мочой священника
над маменькой
над гробом, полным дерьма [IV 13].
Это стихотворение представляет три самых важных темы, кочующих по текстам Батая: смех, экскременты и смерть. Подобные «темы» подвешивают на
Батай говорит нам, что вселенная энергенна*, и что судьба всей энергии — это полная растрата. Энергия солнца истекает безвозмездно и без замысла. Та часть солнечной радиации, что достигает земли, питает все природные процессы, провоцируя лихорадочную непристойность, которую мы называем «жизнью».
Жизнь предстаёт как пауза на пути энергии; в качестве посредственной стабилизации и усложнения солнечного разложения. В самом общем смысле таково приблизительное решение проблемы потребления. Подобная солнечная- или обще-экономическая перспектива представляет производство как иллюзию; как гипостазирование отклонения в поглощении. Производить значит частично управлять истечением энергии на пути к её растрате, и ничего больше.
Смерть, изнашивание* или растрата — это единственный конец, единственный окончательный пункт назначения. «Полезность» на самом деле не может быть ни чем иным, кроме описания функции, не оставляющей после себя ничего в ходе того, как энергия полностью растрачивает себя. Это «относительная полезность». Ход западной истории своим явным симптомом имеет отхождение от понимания этого соотношения по направлению к неправдоподобной абсолютной ценности. Ползучая рабская мораль колонизирует ценность, соотнося её с определением «того, что служит». «Хорошее» становится синонимом полезности; что означает медиацию, инструментальность и внутренне обусловленную зависимость.
Реальная траектория утраты это «имманентность», длительность, базовый материализм, или поток. Если предельно локальное сопротивление всего, которое откладывает, препятствует, или моментально сдерживает движение распада, абстрагировано от солнечного потока, оно интерпретируется как трансценденция. Подобное абстрактное сопротивление утрате характеризуется автономностью, гомогенностью, и идеальностью, и Батай суммирует всё это словами «(абсолютная) полезность».
(Неизбежный) возврат собранной энергии в имманентность это религия, ядро которой — жертвоприношение, производное от сакрального. Жертвоприношение это жест яростного освобождения от служения, коллапс трансцендентности. Подавление жертвенного рецидива изолированного существа это общее утилитарное свойство человечности, коррелирующее с профанным отгораживанием от яростной природы, которая находит своё определение в теологии. В своём профаном аспекте религия военизируется* посредством концепции Бога: последний гарант стабильного бытия, подчинение (губительного) времени замыслу, и отсюда всеобщий принцип полезности.
Скрываясь в тени своих богов, человечество является проектом определённого упразднения растраты, и потому является невозможностью. Очеловечивающий проект имеет вид несостоятельного закона. Несмотря на укрепление запретов, невозможное разъедает человечество через эротизм; извержение нередуцируемого избытка, который является базовым соединением сексуальности и смерти. Эротизм обгладывает нас как неизбежный триумф зла (полной потери).
Это и есть то страстное подчинение судьбе (= смерти), которое ведёт самого Батая в его чтении, например, в «Литературе и Зле», величайшей работе по атеологической поэтике. «Литература и Зло» — это серия откликов на тексты, демонстрирующие связь между литературным искусством и трансгрессией. Настойчивое предположение Батая в том, что неутилитарный писатель не заинтересован в том, чтобы служить человеческому роду или способствовать накоплению богатств, каким бы сдержанным, аккуратным или духовным это ни представлялось. Вместо этого, такие писатели (Эмили Бронте, Бодлер, Жюль Мишле, Блэйк, Сад, Пруст, Кафка и Жене являются примерами Батая в этой работе) озабочены коммуникацией, которая означает вторжение в индивидуальность, автономность и изоляцию, причинение ран, через которые существа раскрываются навстречу объединению бессмысленной траты. Литература это трансгрессия против трансценденции, тёмное и нечестивое причинение жертвенной раны, позволяющее более базовую коммуникацию, чем псевдо-коммуникация инструментального дискурса. Сердце литературы — это смерть Бога, вопиющее отсутствие хорошего, а значит и всего, что защищает, объединяет или отстаивает интересы отдельной личности. Смерть Бога это тотальная трансгрессия, освобождение человечности от самой себя, возврат к слепой испепеляющей экзальтированности солнца.
*
Представлять, что философия умерла — это всего лишь утешение для смиренных. В действительности всё скорее наоборот. Философия будет последней человеческой вещью; возможно, подобающим призывом к концу. То, что человечество обречено на уничтожение, это одна из самых очевидных мыслей, и не более чем самое элементарное определение для философии, поскольку для вида размышлять над собственной судьбой это жалкая ограниченность.
Человек это маленькая вещь, которая научилась бормотать слово «бесконечность». Делая это, он умаляет всё, обедняет даже себя самого. Достаточно окунуться в историю монотеизма, чтобы заметить несчастность человеческих «бесконечностей» по сравнению с самыми рядовыми естественными беспредельностями. Для начала вещи надлежит съёжиться, чтобы поделиться с нами чем-либо; стать «человечной»*.
Мы способны навредить или угрожать природе только на самой поверхности её чувствительной, наружной кожи. Подлинная природа — материя — это нечто иное; безразличная и неприкосновенная. (Значит, она глубже, чем Бог). Эта глубинная природа ни от чего не страдает, ни на что не жалуется и не интересуется ни чем. От неё можно спрятаться только на самой поверхности.
Есть один простой критерий вкуса в философии: он заключается в том, чтобы избегать вульгарности антропоморфизма. Именно эта ошибка ведёт к тому, что мы принимаемся за производство клеток*. Вот конкретные из них:
1 Радикальная дегуманизация природы, включающая крайний имперсонализм в объяснении сил природы и полностью атеологическую космологию. Ни намёка на молитву. Инстинктивная брезгливость по отношению ко всем следам человеческой природы, и отношение к ним как к экскрементам материи; как к её самой постыдной части, её отбросам…
2 Беспощадный фатализм. Здесь не место для решений, ответственности, действий, намерений. Любое свидетельство касаемо человеческой природы безвозвратно дискредитирует философа.
3 Отсюда отсутствие любого морализаторства, даже самого твёрдого, самого аристотелевского. Склонность к исправлению, не говоря уже о мстительности, которая проявляется в мелочах.
4 Презрение к общепризнанным ценностям; нельзя даже подумать о том, чтобы случайно затесаться в число порядочных. Даже быть врагом — это слишком удобно; нужно быть чуждым, зверем. Нет ничего более абсурдного, чем философ, который хочет понравиться.
Либидинальный материализм — вот название для такой философии, хотя, возможно, это скорее не философия, а угроза. Исторически она пессимистична, широко представлена в работах Ницше, Фрейда, а также Батая и Шопенгауэра. Тематически она «психоаналитична» (хотя она и не верит больше ни в анализ, ни в душу), термодинамически-энергентна (но уже не физикалистична или логико-математична), и, возможно, немного паталогична. Методологически она генеалогична, диагностична и с энтузиазмом относится к акцентуации интенсивности, которая обеспечивает ей выживание после приступов безличного исступления. Стилистически она агрессивна, самую малость гиперболична и — прежде всего — абсолютно невменяема…
Подобное мышление меньше озабочено теоретизированием, чем нападением; оно прорубается сквозь дамбу, защищающую цивилизацию от потопа безличной энергии. Его можно описать как письмо против выживания, но любое описание неизбежно присваивает. Оно никогда не найдёт своего отца, или свою мать; у него нет никакого родоначальника. Ведь оно началось не с Ницше, и не с
Никто никогда не может «быть» либидинальным материалистом. Это «доктрина», которую можно только выстрадать в виде воскресшего выродка, звона расстроенных нервов, возгорания артикулируемой причины и тошнотворной ярости мышления. Это гиперлепсия* центральной нервной системы, разрушающая адаптивные режимы тела, и поглощающая его силы в ритмических конвульсиях, которые не только тщетны, но и опустошительны. Уже Шопенгауэр знал, что мышление с медицинской точки зрения катастрофично, а Ницше это продемонстрировал. Состарившийся философ либо чудовищно живуч, либо шарлатан. Сколько времени требуется на то, чтобы уничтожить что угодно в огненном шторме? Или рукотворным солнцем на поверхности земли? Только когда вспышка в мозговом центре Ницше сплавилась с другим сияющим объектом в небе над верандой в Турине, либидинальный материализм подошёл к границе своего осуществления.
Как все «-измы», либидинальный материализм — это в лучшем случае пародия, в худшем — упрощение. Что важно, так это яростный позыв к бегству, который даёт этой книге название. Жажда истребления. Это название росло на мне, как язвенный нарост во внутренностях. Это проявление желания или отрицания? Превозмогание воли, нигилизм, влечение к смерти*? Мне кажется, что, прежде всего, это принуждение к абстракции. С исторической и антропологической точки зрения, это отрицание, оторванное от своей логической роли, чтобы стать абстрактным пунктом назначения для привязанности, которая лишилась своей оформленности посредством свирепого посвящения, охваченности* и срослась с двигателем ликвидации. Так, чтобы инструмент логического вскрытия стал, наконец, очевиден в своей ужасной материальности; негативность как упоение. Ради того, чтобы была скорее «воля отрицания, а не отрицание воли» [N II 839]*; это — иллюзорное различие, проворачивающееся как ржавый гвоздь в чувствительной плоти. Так первобытное рыскание, которое ищет освобождения от реальности, — это объект философского размышления, или источник, осуществляющий сам себя через философию? Что это, что обращается к обострённости настоящего?
Обострённость действует на нервы, пока всё приводится в движение безграничной грубостью: смерть тревожит нас. Даже перед тем, как я пересеку черту на пути к смерти, я буду терзаться своей жаждой к ней. Я признаю, что в некотором смысле всё это кажется патологией, но что пронзает меня насквозь, так это неизвлечимость этой патологии из правды. Относиться с пониманием к
Речь не о том, чтобы отрицать нежность, с которой Ад превратил меня в источник разумного недоразумения. Никто менее достойный святости не появлялся на Земле. Я крадусь в Ад, как кишащая паразитами псина, а компанию мне составляет куда более божественная сущность. Согласно религии сикхов, люди — это маски ангелов и демонов, и мои собственные инфернальные черты дают недвусмысленные намёки (куда бы я ни шёл, тени сгущаются). Когда я всматриваюсь в глаза Батая на его фотоснимках, я соединяюсь с его несуществованием в единении сожжения. Я улыбаюсь.
*
Мои крылья разорваны
их никогда не лизало солнце
чёрные и подвешенные на железных крючьях
как ядовитый цветок смерти
они раскрываются только ночью
*
Не выходя за рамки разумного, может показаться, что выбор за вами, развеять или принять мои слова, когда я настаиваю: я был за рамками. Как у Платона, знание — это припоминание и для меня, но в отличие от него я изжил философию и вдохновение, потому что я изжил саму жизнь. У смерти нет отображений, но я хотя бы вернулся из мёртвых (черта, которую я неохотно разделяю с Назаретянином). Мир воздержался от всех усилий соблазнить меня к серьёзности, потому что я парил в смерти. Я покоюсь в жизни, как бродяга, отдыхающий в кустах, бормочущий эти слова…
Примечания
[N III 575], [N II 839] — Nietzsche, Friedrich W., Werke, ed. Karl Schlechta, Frankfurt am Main.
[III 47], [II 143], [III 286], [IV 13] — Bataille, Georges, Oeuvres Complètes, eds. I & II Denis Hollier, III & IV Thadée Klossowski, V Mme Leduc< VI (and following volumes — 12 vols in all) Henri Ronse and J.-M. Rey, Paris.
[TE 113] — Cioran, E.M., La Tentation d’Exister, Paris 1956.
абразия — abrasion, лат. «соскабливание, соскребание»:
1) геоморфология — процесс механического разрушения и сноса горных пород в береговой зоне водоёмов волнами и прибоем, а также приносимым водой обломочным материалом;
2) медицина — операция выскабливания слизистой оболочки матки для удаления патологических образований при некоторых её заболеваниях, а также плодного яйца и его оболочек с целью прекращения беременности или при выкидыше;
3) естественный износ монет в ходе обращения, потеря монетой стандартного веса или получение различных механических повреждений.
дурную — schleht
Самозабвенностями — Seinsvergessenheiten
непрерывности — incessant je
определительно — definitionally
игре — en jeu
тревоге — ennui
экскрементально — excremental
захваченный — transfixed
энергенна — energetic
изнашивание — wastage
военизируется — martialled
«человечной» — «humane»
Именно эта ошибка ведёт к тому, что мы принимаемся за производство клеток. — It is by failing here that one comes to side with cages.
гиперлепсия — греч. «сверхприпадок», «суперприступ».
влечение к смерти — Todestrieb
охваченности — besetzt
