Prototype 466: продолжение 3
## Презентация фонда ; Парижские записи
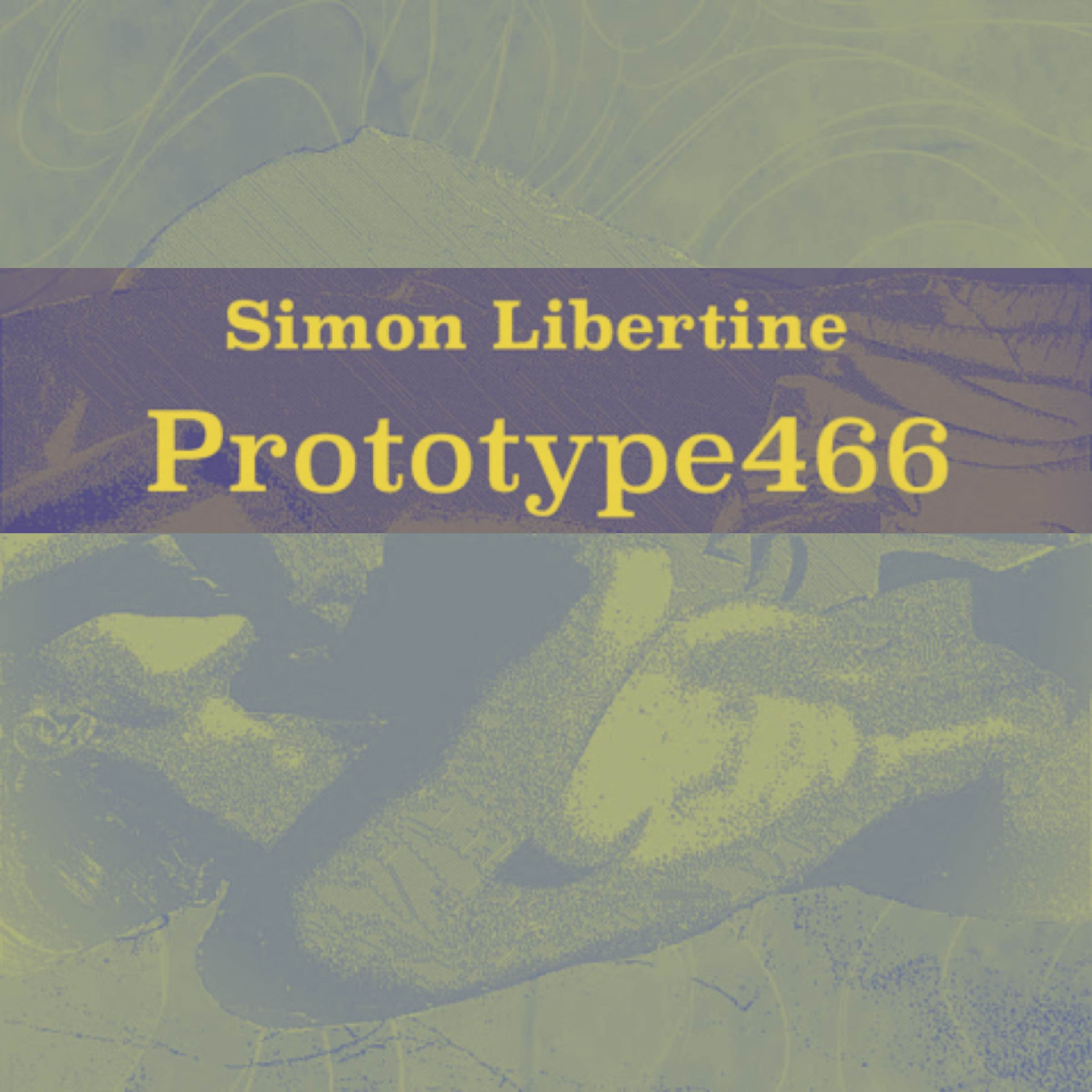
Открытие очередного архитектурного проекта Поусона — «Таблетницы», было приурочено к презентации Единственного Фонда Рескина (TORF), основателем которого общественность единогласно считала нашего Куратора. Разношерстные селебы от мала до велика выстроились в тридцатиметровую очередь у угловатого отверстия, ведущего в помещение, больше смахивающее на дизайнерскую собачью конуру в масштабе 1:5. Каждый забегал внутрь буквально на минуту, чтобы сделать селфи на фоне алых аморфных поверхностей, вдоль и поперек покрытых белыми точками Яёй Кусамы. Узор Кусамы оказывается тотальной инсталляцией, тотальной средой, в которой вдруг обнаруживает себя ничего не подозревающий зритель. Блаженная прорицательница из страны восходящего солнца увидела эти точки-кружки в детском видении, и пронесла их в своем творчестве через всю жизнь.
Точки Кусамы — это нагромождение символов Японии. Не похожа ли Кусама в этом затянувшемся на дистанцию целой творческой карьеры жесте на нашего Джаспера Джонса, долгое время выезжавшем на изображении не японского, но американского флага везде и без повода?
Я равнодушно смотрел как очень целеустремленная Ирина Шейк, жизнерадостная Бейонсе, чертовски артистичная Жизель Бундхен, грациозная Миранда Керр, рассудительная Ким Кардашьян, благозвучная и гордая Рианна, эфирная Саша Лусс, честолюбивая Кети Топурия, светская и благородная Виктория Бекхэм, возбуждающе-русская Ульяна Сергеенко, души наши врачующая Кайли Миноуг, медовая Елена Перминова, ароматная Рози Хантингтон-Уайтли, неутомимая фантазерка Адриана Лима и другие демонстрировали свои прелести в Instagram. Простите мне этот небольшой неймдроппинг. Что уж поделать, если сама жизнь арт-сообщества местами походит на летописные списки светской хроники.
Би Шаффер здесь с мамой Анной Винтур, которая ходит под руку с Шер. Как мы видим, и этот год не стал исключением, мировая богема (включая Карла Лагерфельда) собралась в модернистской вилле 1920-х годов на Лазурном Берегу. Здесь, на торжественном открытии «Единственного Фонда Рескина» должны были присутствовать главы государств и члены королевских фамилий, поэтому мне вручили специально составленный к данному высочайшему поводу сборник правил этикета. Каждый год на мероприятие съезжается все больше профессионалов индустрии и любителей искусства, а галереи выстраиваются в очередь, чтобы принять участие в предварительной ярмарке. Поэтому организаторы убедительно просят Джейсона Александра, то есть меня не устраивать здесь мировой мастерс по акробатическому алко-рок-н-роллу.
У входа посетителя приветствовала трехметровая конусообразная статуя Don Brown Yoko XVII, изображающая в бетоне силуэт, с ног до головы покрытый столь же бетонной скатертью. Если честно — надоели уже все эти художники-мегаломаны, воспризводящие человеко-идентичные гиперреалистические скульптуры колоссальных размеров. Копии жены в постели, собственной бабушки и ребенка соседа. Такаши Мураками, и тот скатился туда-же и поставил свою гигантскую копию-идол в образе будды на выставке в
Пирушка для капиталистически-упакованных псевдо-декадентов из «Единственного фонда Рескина» предлагает сладкую возможность налопаться черной икры и шампанского под завидным предлогом. Красочные сладости приветствуют нас на тарелках подобно ожившим пирожным с картин Уэйна Тибо. Рядом с ними искрилось радостное лицо Бена и двух загорелых джентельменов.
— Свершилось! Верховный суд Италии оправдал моих старых педиков, Дольче и Габбану.
Бен обнимает их, бросая ласковое «ах, вы мои курочки». Первое, к чему они приходят через минуту разговора — «до смерти Кита все было иначе, совсем все». Это они, понятное дело, о Ките Харринге, нашем покойном художнике и активисте, в остающиеся перед роковым часом недели проявлявшим удивительный гуманистически и почти религиозный пиетет перед неизвестным, задевший своим влиянием и Бена.
Тут и там встречались слезы радости и редкие визуальные витамины примитивно, впрочем, исполненных дизайнерских вещей. Одним словом, все, что я увидел — мало чем удивительное пространство закрытых ужинов и коктейльных вечеринок. Где же тут ужасы и суровая правда современной жизни? В самый разгар каждой из таких вечеринок галеристы и кураторы, выпив по десять «апероль шприц» собираются в центре галереи и начинают орать точно свора собак. Громче всех пищит Дэвид Цвирнер, тише всех — старина Ларри Гагосян, зубодробительней — Рейчел Аффнер. Лас-Вегасский магнат Стив Винн неслышно шипит прохладные анекдоты Доминику Леви.
Как и все остальные люди вокруг, они итак уже давно считались великими — и имена их были на слуху, правда, до сих пор было непонятно — за какие именно их заслуги. Скорее всего, речь изначально шла об авансе.
Поусон, другой виновник торжества, изредко поглядывая в мою сторону, чеканил каждое британское словцо. Пояснял что-то посторонним джентельменам, один из которых стоял рядом с гигантским пушистым микрофоном на держателе и миниатюрной видеокамерой Blackmagic, стоившей как истребитель F-35:
— Все это называется Gentlemen’s space, «Пространство Джентельмена», хотя изначально в проекте — это была Плаза. — он обводит пространство взглядом, — Плаза — испанское слово, означающее открытое общественное пространство. Вы не могли бы не тыкать мне этим в лицо? Спасибо. Это новое пространство, скажем так, весьма радикальное. Ну, смотря, конечно, с чем сравнивать — если с Мис Ван Дер Рое или вот этими новомодными колоссальными проектами Жака Херцога — то, конечно, радикальностью здесь и не пахнет.
Затем Поусон пояснил мне многое насчет фонда Рескина:
— Присутствие инвестиционной логики всегда проявляется апофатически. Когда эта сумма у тебя есть, ты уже обязательно понимаешь куда инвестировать капитал, а если не знаешь, то у тебя этого капитала и быть не может
— Тогда откуда у вас для всего этого эм, инвестиции?
Помимо финансирования последних масштабных кинопроектов Джулиана, Фонд Рескина поддерживал деньгами независимые кураторские проекты и начинающих художников, оплачивал переводы и гонорары. Деньгами или любыми иными способами — например, психологически.
— Кто о чем, а художник — о провенансе. Хорошо-хорошо, — Фредерик поправляет опрятный галстук. — Мы с ныне покойным Джулианом и Беном еще лет двадцать назад учредили фонд, впоследствие финансировавший все наши дела.
Сложно не заметить, что Поусон нередко говорит «мы» и «нам», вместо «я» и «мне». Странно, но подобная манера речевого поведения вовсе не раздражала, ведь Поусон будто бы говорит не от лица архитектурного бюро своего имени, но, скорее, целой эпохи в архитектуре.
Он был женат восемнадцать раз и каждый раз — по любви. Иногда Фредерик даже время отмеряет женами: Что-то я проголодался, ведь я, постойте-ка, завтракал — смотрит на свое наручное орудие — примерно три жены назад.
В Поусоне всегда чувствовалась едва уловимая внутренняя озабоченность, а Бен, постоянно находясь под мухой, нередко сиял беззаботностью. Другое дело, что люди обычно страдают алкоголизмом по
Пинк сегодня вертелась и мельтешила под ногами, стараясь устроить все наилучшим образом. Рядом с ней сейчас стояла Рейчел Аффнер, владелица интернет-ресурса о современном искусстве Art fag city (artfcity.com). Рядом на минуту почти как калибри замер с щелкающей зеркалкой Герман Ларкин — молодой фотограф, секрет которого в том, что он щелкает селебов, представляя их родными алтайскими хребтами, и соответствующе располагает их композицию, поэтому даже мелкие блошки вроде меня на его фотографиях выглядят как голливудские титаны. В последние годы, когда Голливуд делает ставку на более концентрированные сюжеты, Ларкин казался фотографом сопротивляющимся общей тендеции и даже выдающимся.
Был замечен также Джабах Кахадо, уроженец США, живущий и работающий в Париже и Москве, который создает произведения на грани синтеза живописи, коллажа и фотографии, а также работает с редкой техникой платино-палладиевой печати. Экспозиция Torn, созданная специально для Биеннале, отличается эмоциональностью и тонко выверенной драматичностью.
И вот, стоим мы после презентации, Пинк набила полный рот мадленками в доказательство глубокого нравственного кризиса буржуазной морали, а я дожевываю тоже, наверное, уже десятый фруктовый канапе за вечер, что уже начинает сказываться на моей стройной фигуре, подчеркнутой костюмом авторского кроя. Веки мои закрыты уже наполовину, и тут кое-что случается. Парень буквально подбежал к нам, сломя голову, и своеобразно представился:
— На знакомят уже в четвертый раз — хотя вы этого можете и не помнить.
Пинк откопала его на Art fag city, интернет-ресурсе о современном искусстве, который развивает все та же выпускница Christie’s Рейчел Аффнер. После недолгого разговора с моим горячим поклонником оказывается, что он вдобавок ко всему штурмует горизонты, скажем так, абстрактной живописи по приказу лампы накаливания.
Во всех трех измерениях галереи были беспорядочно расставлены — стены и потолок не стали исключением — ржавые скульптуры людей Энтони Гормли в натуральную величину. Маленькая шустрая девочка засовывала ручонку в нос трехметрового «Чье лицо?» Андрея Адно.
Mimesi от Giulio Paolini прямиком из 75-го года прошлого века представляла из себя два бюста Давида, повернутые лицами друг к другу, так чтобы создавать небывалое напряжение столкнувшихся взглядов. Два Давида — это сильно, ведь зрителю кажется, что между ними намечается неслабая потасовка, подумал я.
Едва заметив меня, Обрист закричал на весь зал:
— Джейсон! Джейсон, что это за Colloque de chiens (собачья сходка)? Ах, я слишком большой vitellone (бездельник), чтобы заниматься этим!
Да, наш Ханс-Ульрих хронически нелеп, тем и мил. Обрист умудрился позже на вечеринке подраться с Клаусом Бизенбахом — с крихом «а теперь сожри это», Обрист врезал ему по лицу куском торта со взбитыми сливками, в
Улучив полчаса, Обрист, не преминул освежить в нашей с Джаредом памяти полную историю своей жизни. Нам пришлось выслушать рассказ о четырех романах, случившихся с ним в
Не без помощи Ханса мой булыжник, отвечающий на любые заданные вопросы выбранными с помощью хитрой эвристики строками из поэзии Йейтса и Паунда соседствовал с замечательной скульптурой Марка Куинна, изображающей в золоте Кейт Мосс, выполняющую эротичную асану, от которой даром получал часть внимания и на себя.
Замышляя эту, далеко не последнюю мою редимейд работу, я,
«Так вот, все это — лишь результаты нашего труда — на полную мощность пыхтит нейромаркетинг, позволяющий сбрасывать все это нуворишам и их верным друзьями — мелким банковским сошкам. Группы cумасшедших и больных спидом обезьян стучат для вас по пишущим машинкам. Во всю дышат наши транспортные жилы для успешной транспортировки наших драгоценных картин прямиком к толстосумам». Напоследок, камень кокетливо добавлял: Мне жаль, друзья, но Душа в искусстве сегодня всухую просасывает ремаркетингу!». В буклете к выставке мое детище прозвали «подарком для хипстеров-луддитов мира будущего».
Обрист снова говорил стремительно, за восемь секунд разгоняясь до скорости пулеметной очереди. Он забыл в отельчике три рубашки.
— Капитализм выкупает за бешеные деньги любые культурные емкости, даже книги или пластинки, манифестирующие о существовании любых более высоких и более приоритетных, чем он сам, ценностях.
Он осторожно посматривал по сторонам.
— На этом фоне сегодня развивается история творческого человека. В этом смысле, лично Я больше ценю лишь художников, которые молчат…
Только что, ему на ногу случайно наступила сама Опра Уинфри, отчего он, похоже, кончил — она вылезла на Ханса будто аллигатор, согревшийся на песке. Его лицо недоуменно скорчилось — будто перед эпилептическим припадком, а затем расплылось в блаженной дреме.
Подойдя к нему поближе, я вдруг обратил внимание на его странную жестикуляцию и манеру стоять. Так вот, получается, в чем дело. Похоже, он буквально только что выпил что-то чересчур для него крепкое, и, кажется, скоро начнет выпендириваться, прямо здесь и сейчас. Его, как я успел заметить, уже слегка раскачивало по оси абсцисс.
Потом я видел лишь, как он беседовал c улыбкой, все больше напоминающей дыру на расползшемся чулке.
Что касается самой выставки, то смотреть здесь было особо не на что. Да, был представлен, например, ранний Матисс — портрет мадам Матисс на переднем сиденье автомобиля, она там смотрит через ветровое стекло.
Нашелся и Джефф Кунс с бронзовой копией надувного игрушечного Халка в полный рост, любезно предоставленный для нашей выставки Ларри Гагосяном. Халк этот уже был расписан Беном для грядущих соло-выставок Кунса в Азии, которые ознаменовали бы для Войны выход на гигантский рынок пламенного дракона.
— Он как бы достигает сартори, чтобы видеть сущность вещей…
— Что? Сучность вещей? ты, должно быть, хотел сказать «сочность»? — беседовали два голоса в ворчливом эфирном шуме.
Польская художница Гошка Мацуга представила два масштабных черно-белых гобелена — работа «Что есть, то есть, а чего нет, того нет — 2» отсылает к традициям XVI века и вновь затрагивает темы политики, социологии и этнографии, «и все такое прочее».
«Это слишком напоминает об истории», в задумчивости прошептал один из гостей над коньячным бокалом с кальвадосом, намекая на Холокост. “And I don’t mean Déjeuner sur l’herbe”. {прим: И я имею в виду не «Завтрак на траве»}.
Мы тоже стояли у этого гобелена и Бен почему-то спросил меня:
— Разве когда-то мир был не так же опасен, как сегодняшний?
— Не знаю, но могу точно сказать, что транквилизаторы и снотворное иногда мало помогают.
Бен чуть пораскинул, перед тем как удачно завершить мою мысль:
— Если они перестают помогать, значит ты окончательно позврослел…
{ прим: Jeff Koons, Hulk (Friends), 2004–12, полихромная бронза и тщеславие, 71 ¼ x 48 ½ x 26 inches (181×123.2×66 cm) Копирайт, разумеется, Джефф Кунс. }
На четыре утра было объявлено выступление Кристофера Канеда. В назначеное время черный музыкант, накрашенный так, чтобы никто не узнал и, похоже, принадлежащий к незнакомой мне африканской культуре-вуду, начал аутентично стучать в барабан и со все более угрожающими интонациями читать со сцены таинственные заклинания на непонятном языке. Нелепость и великолепие этих музыкальных угроз подчеркивали сюжетообразующий для этого вечера характер момента. Джей почти чувствовал это. Казалось, Тьма для этого африканца — детская песочница, которую он счел уютным пристанищем. Казалось, он проклинает весь мир и заклинает духов отомстить ему. Казалось, его темные интонации значили что-то вроде «Защитите нас, о кто мы? — Маленькие и несчастные Мы под властью огромных сил, которые нас превосходят, перед которыми мы падаем и пропадаем». И с тех пор у меня иногда закрадывается мысль, что я заколдован. По крайней мере, та его музыка до сих пор звучит в ушах.
Даже незнакомая мне африканская магия не сумела переломить царившего в атмосфере мероприятия формального душка.
Устав от скуки, я даже прикорнул на секундочку на до странности комфортабельном пуфе, но у меня случилась миоклоническая судорога, иногда вытряхивающая нас из сна при засыпани. Поэтому все это время я чувствовал себя спящим хамелеоном, свернутым в шар и еще не осознавшим, что он несколько секунд назад лениво вылупился из скорлупы яйца.
Приблизившись к дружелюбному зеваке, наряженному в неплохие брюки и пиджак, но от разных костюмов, я поинтересовался, что это, собственно, было.
— Да не бери в голову, это у них, этих Вуду, — такой ритуал смерти. Теперь, с точки зрения его народности все мы считаемся умершими — и он разразился холодным смехом.
----
## Немного французской родины с Николь
После ее ухода в пепельнице остался дыметь окурок с травкой, который я, в
Отправляясь во Францию на каникулы, я запланировал зайти в книжный магазин — воссозданный Джорджем Уитменом Sheakespeare & Co, который, по его же собственным словам является «социалистической утопией, скрывающейся под видом книжного магазина» — один из последних культовых книжных, в котором я никогда не был, и заодно снять там свой первый ролик.
Оставался только пустяк — купить билеты. На главной странице «авиакассы» символический самолетик перелетал из большой нагло-желтой точки Нью-Йорк к большой желтой точке Paris. я выкупил место у окна, отказавшись от страховки.
Пинк повсюду меня сопровождала, сначала она использовала для текучки большой японский блокнот, выдержанный в том же цветасто-анимешном стиле, что и она, но
На фотографиях Пинки этого периода — Вандомская площадь и окна особняка Ламбер. Притягательность уличной моды, от улицы Сент Оноре до бульвара Осман, ее «излишняя достоверность». Вот одно из ее примечательных высказываний парижского цикла: «Лувр, конечно, хорош, но уж слишком много там картин!». Захотелось вернуться в добрый старый мир Большого яблока, где в манере одеваться каждого видна крошечная доза легкости.
В итоге, я
Я готовился к этой поездке как к крестовому походу, требующему понятной большой решимости и, вместе с тем, некоторой небрежности, а также умения вести себя (этим искусством я владею в совершенстве).
Передо мной танцует в окне Булонский лес — главный парк Парижа. Склизкий мост, переброшенный через Сену напоминает о Кенсингтонском парке.
В Париже периодически находят заброшенные дома, ломящиеся от того же версальского антиквариата, хоть временно и недооцененного по воле судьбы, а недавно нашли квартиру — настоящую капсулу времени. Оставшееся сообщение на древнем автоответчике прямиком из начала 90-х:
— «Когда ты заглянула в клуб, я уже нюхнул, да и, чего уж греха таить, передернул и съел сладкий бриошь вместе с кофе. Если бы Бог не хотел, чтобы человек мастурбировал, он бы сделал наши руки короче. Как у тех динозавров. Мы спускались по лестнице и застряли с тобой в растянувшемся поцелуе. Почему я нашел тебя мертвой? Давно. Так давно… {звуки рыданий}».
Действительно, в Париже до сих пор остались анклавы темпоральной сингулярности и тупики, в которых заблудилось время. Понял я это, когда мы зашли в гости к знакомой Николь по имени Фелиси, учительнице литературы и потомственной аристократке, собиравшей знаки времени.
Демонстрируя телефонный аппарат, оформленный в стиле рококо, стоящий на стопке листов с дневниками Монтеня, Фелиси предлагает и нам архивировать современность, оставаясь как никогда внимательным к ее наиболее темным местам. Современность содержит в себе самом семена собственного анахронизма. Мы с любопытством заглядывали в каждый уголок лабиринта ее квартиры, и ее содержимое показалсь нам мощней Лувра. Точно так же, наверное, невозможно не заглянуть в школьное послание из капсулы времени, составленнное более сдержанным и чуть менее опытным современником в наивном, но, все же, самом лучшем прошлом.
Наш старый знакомый, Энди Уорхол, например, тоже неплохо понимал законы современной жизни. Ему каждый месяц присылали приглашения, каталоги, фотографии, письма. Он же все это упаковывал, подписывал «декабрь 69-го» и делал из них капсулы времени. это попытка создать шум времени, но шум и мусор времени создаются независимо от нас. Что станет нашим наследием мы не знаем. Надо всегда вести себя так, будто вас фотографируют, и надо всегда писать так, будто вас будут читать. вы никогда не знаете, что от вас останется — всегда ведите себя так, будто за вами следят. Ибо не бесследно пройдет наша жизнь. Аминь!
Постепенно Николь начала разделять почти все мои порочнейшие пристрастия. Мы оба мечтали, представляя, как страстно любим друг друга но, кажется, не менее страстно ненавидели наяву. Нередко наши ссоры перерастали в драки, причем свидетелем этих сцен порой становился весь Монмартр. Камера — внимание, общий план на город:
Теперь Джейсон ходит по городу, который знает наизусть: Париж. В летнем парижском воздухе витает аромат кофе и жареных каштанов. На нем — выпендрежный костюм с цветами. Женские особи вторят ему безнадежно длинными ногами и затянутыми в жестокие кожаннные сбруи Zana Bane талиями.
Тут же мне повстречались две французские девочки, студентки-первокурсницы, которые будут рассуждать о своих однокурсниках в самых грязных эпитетах, поедая спагетти из гигантских тарелок. Каждое третье их слово — chienne.
Николь всегда прекрасна. Именно такой наряд, романтичный и сказочный, создал Диор: розы, собранные в несуществующем саду, поддерживают волны легкого тюля. Завитки на миндальном фоне контрастировали с малиновым цветом ее платья. Николь казалось мне одаренной балериной, чья робость с виду считается признаком гордости. Добравшись до бульвара Сен-Жермен, мы сделали совместное селфи с цветочной клумбой.
На бульваре Сен-Жермен и Вандомской площади Николь и сама казалась барочным цветком в своих заминающихся черных ситцевых платьях, родословная которых начиналась от Paul Smith’s и заканчивалась своеобразными, но, иногда простите, слишком непосредственными конструкциями от Маккуина.
Каждая парижанка навевала мне сценарии любви вроде эдаких: Молодой ласковый человек неожиданно пристал к ней, но в тот раз она испугалась, что он пристанет, и она влюбится, и оставит ради него любимый Париж, ставший ее Землей Обетованной — когда она сидит с мамой в кафе, у них только и разговоров, что о Франции. 25 лет спустя вспышка любви вернется случайно (они встретились боковым зрением друг с другом в отеле Савой). Подумать только, в
В кафе «Флор» черный бархатистый сомик трогал стекло мягкими рыбьими губами, за другим стеклом танцевали девять надувных латексных скульптур. В двенадцать ночи улица Сен-Бенуа резко и без спроса раскрыла все свое мрачное великолепие: закончился спектакль этот уже утром, когда на горизонте, будто на полароидовском фотоснимке с мандариновым проблеском проявился теплый рассвет. Знай, дорогой читатель, что я не сфотографировал и не приложил к данному тексту виды утреннего Парижа исключительно из любви и милосердия к тебе.
Вот только моя тайная аллея на Рю де Л'Ансьен Комеди сейчас напоминала скорее аллею смерти. Эта мощеная пешеходная аллея скрыта за домами. Пробраться можно через средневековую арку, но те несколько кафе и магазинов, что расположены на ней сегодня оказались закрыты, разве что все еще держался Ле Прокоп — старейший ресторан для свиданий. Почти среди бела дня по аллее топал в школу шиншилловый мальчик, ковыляла в детсад пурпурная девочка. Потом, когда солнце уже почти поднялось, девушки вдвоем несли полутораметровую пышную корзину цветов, быстро ступая по солнечной брусчатке. Глаз радовали оранжевые оттенки в стиле «Люблю я тихое природы увяданье, в багрец и золото одетые леса» — Пушкин. Не поспав, и двигаясь днем в оглушительной карнавальной толпе, я пытался избегать потоков внимания. Рядом размалеванная касатка несла в руке самодовольные гладиолусы, а ее маленькие очкарики мельтешили у меня под ногами.
Вообщем, я молча таскался по
— Где же свет твоего разума и твой продуманный расчет, Рене?
Просматривая неплохо освещенную надгробную плиту с завещанием, оставленное рукой самого Рене, Джейсон произносит:
— Ок, гугл, почему мне так грустно? Что было? Что будет? Чем сердце успокоится?
В сам деле, не Шма Исроэль же мне здесь вспоминать…
Вот так и получилось, что мы целую неделю таскались по винтажным анклавам кулинарной джентрификации {ч-т-о?}. От иных парижских буланжери «Франсуа» отличалось не сильно. Чуть более нарядное, чем принято во Франции. Печенье «Мадлен» и потрясающего качества хлеб на «Сен-Сульпис» в 6-м округе. Такой фасад мог бы премиленько смотреться в районе Бауэри в
Мы неслись в
Заглянули мы и к моему старому приятелю Марко, квартира которого славилась своей пауковой лабораторией. Марк (без о) — книжный журналист и, по совместительству, абсолютный социопат с прогрессирующей паранойей.
Вдоль всех стен обширного мавзолея его квартиры на Рю Дарю стояли бесчисленные клетки с пауками, объединенными в кластеры по видам и размерам этих внушающих животный страх инопланетных особей — здесь небольшие виды со смертельным ядом, там гигантские тарантулы пустыни. Николь держалась молодцом, а я чуть не упал в обморок. Находиться здесь было некомфортно, хотя Спиноза, обожавший пауков, наверняка, бы счел его квартиру разновидностью райской обсерватории.
