Леся Прокопенко. Высшие формы испорченности: ксенофеминизм и мир из клочков
Автор: Леся Прокопенко
Манифест ксенофеминизма — это текст чрезвычайно задорный. Его сочинили в 2015 году участницы группы Laboria Cuboniks: Эми Айрленд, Дианн Бауэр, Хелен Хестер, Катрина Бурх, Лукка Фразер и Патриция Рид, заявив, что пришёл «феминизм небывалого хитроумия, масштаба и видения; будущее, в котором воплощение гендерной справедливости и феминистической эмансипации способствует развитию универсалистских политик, смонтированных из потребностей каждого человека, производя срез сквозь расовые характеристики, способности, экономическое положение и географию» [Laboria Cuboniks, 2015, 0×00].
Когда я впервые наткнулась на Манифест, его восхитительная противомеланхолическая настойчивость была тем, что нужно. Вот он наконец, феминизм, который порывает как со всевозможными националистическими и другими идентитарными программами, так и с левым сектантством, утверждая «всеобщее право вести речь от лица никого в частности!» Для меня это моментально перекликалось с мотивом «мужества стать просто никем» из повести Сэлинджера «Фрэнни и Зуи», и слова обретали оттенки, которые участницы Laboria Cuboniks в них, вероятно, не вкладывали. Как бы там ни было, я была уверена, что всем совершенно необходимо прочесть этот дивный переливающийся текст, а потому решила внести свой вклад в его распространение и перевести Манифест на русский.
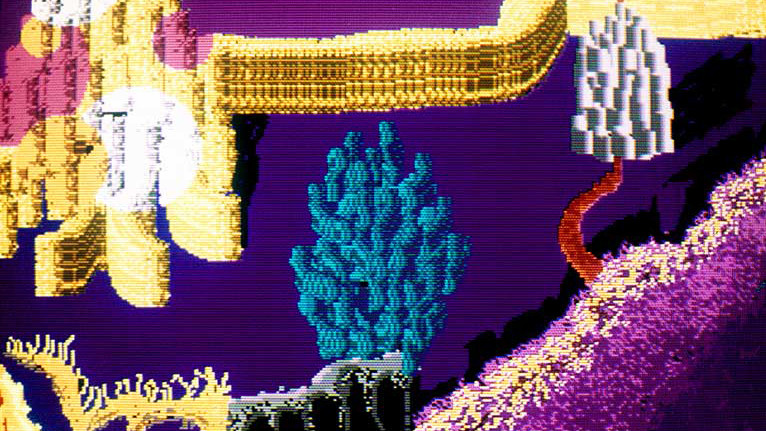
Со временем стало очевидно, насколько сильно разнятся его прочтения. А ознакомившись с рядом околоксенофеминистических публикаций, я поняла, что и моя собственная трактовка не так уж близка авторским позициям. Впоследствии я начала подвергать сомнению некоторые из утверждений Манифеста, и мне стало ещё более любопытно, как его трактуют другие. Мне хотелось читать его как радикально открытый и гибкий набор потенциальных смыслов, а не как программу масонской ложи. И эта податливость является одним из первоочередных заявленных свойств самого текста.
Философ Лучиана Париси предполагает, что «Манифест не следует воспринимать как декларацию о намерениях, его нужно рассматривать как упражнение в hyperstition:* как мыслительный эксперимент или активатор будущего» [Parisi 2017]. Текст, который в своей характерной прокламациям сжатости и фрагментированности может показаться дерзким и безапелляционным, по факту является набором интенсивностей, содержащих множественные философские связи и потенциал для новых сборок, ответвлений, разработок и эволюций. Он прямо заявляет, что «[к]сенофеминизм стремится быть архитектурой, которая подлежит трансформации, и, по примеру открытого программного обеспечения, оставляет возможность для бесконечной настройки и совершенствования вслед за навигационным импульсом активной этической аргументации» [0×10. Здесь и далее цитаты из Манифеста обозначены номером соответствующих разделов. — Примеч. авт.]. Наиболее эффективный способ чтения Манифеста — это рассматривать его как открытое программное обеспечение и «математико-геометрическую архитектуру» [Parisi 2017], позволяя контексту обуславливать его значение и использование. Именно такое чтение я собираюсь здесь применить и исследовать.

~
Ксенофеминизм это, помимо прочего, заявление о том, что справиться с основными проблемами нашей эпохи — а именно, губительной разбалансированностью в земных делах, — можно исключительно внедряя адекватную гендерную политику и, как объясняет Хелен Хестер в своей книге Xenofeminism (2018), мысля в категориях воспроизводства жизни. Воспроизводство в данном случае подразумевает сложную взаимосвязь процессов воспроизводства биологического, социального и технологического. Чтобы иметь возможность рассмотреть возникновение и функционирование этой связи, следует освободить вопрос воспроизводства жизни от пут эссенциалистских, иерархических трактовок, которые связывают (детородное) «женское» с «природой» и «материей», противопоставляя их «искусственности»/«культуре» и «разуму».
Другими словами, если мы хотим взаимодействовать с машинами и технологиями продуктивным, эмансипаторным образом и, как выразилась Париси [Parisi 2017], «упорно следовать мысли о том, как конструировать нас или “мы” совместно с машинами и посредством машин», мы должны начать с вопросов тела и гендера. Это включает сдвиг как в теоретических инструментах, так и в практическом поле, например, в политике «доступ[а] к репродуктивным и фармакологическим инструментам» [0×03]. Хестер подробно анализирует вопрос этого доступа на примере движения феминистской самопомощи в 1970-х и связывает его в дальнейшем с проблемами здравоохранения для трансгендеров [Hester 2018]. В конечном счёте, когда мы мыслим в терминах репродуктивных и фармакологических технологий, мы начинаем признавать, что не существует такого понятия, как «естественное (природное) тело» — и соответственно, не существует такого понятия, как «неестественное (неприродное) тело».
И хотя Манифест ксенофеминизма «страстно анти-натуралистичен» [0×01] — в том смысле, что он стремится доказать неправомочность эссенциалистского идеологического конструкта о «Природе как неизменной данности» [0×11], который используется для оправдания социальных иерархий, геноцидов и дистрибуции власти, — в его тексте подробно объясняется, что эта позиция в конечном итоге приводит к «непоколебимому онтологическому натурализму» [0×11]. Это означает, что все мутирующие, эволюционирующие, конструируемые, изобретаемые, воображаемые явления не противопоставляются «природе». Они как раз и составляют единственную существующую природу. «Утверждать, что нет ничего святого, трансцендентного или скрытого от воли к познанию, защищенного от взламывания и перепайки, равно утверждать, что нет ничего сверхприродного. Под словом “природа” мы понимаем неограниченное поле науки: это всё, что есть» [0×11].
Отказываясь видеть в
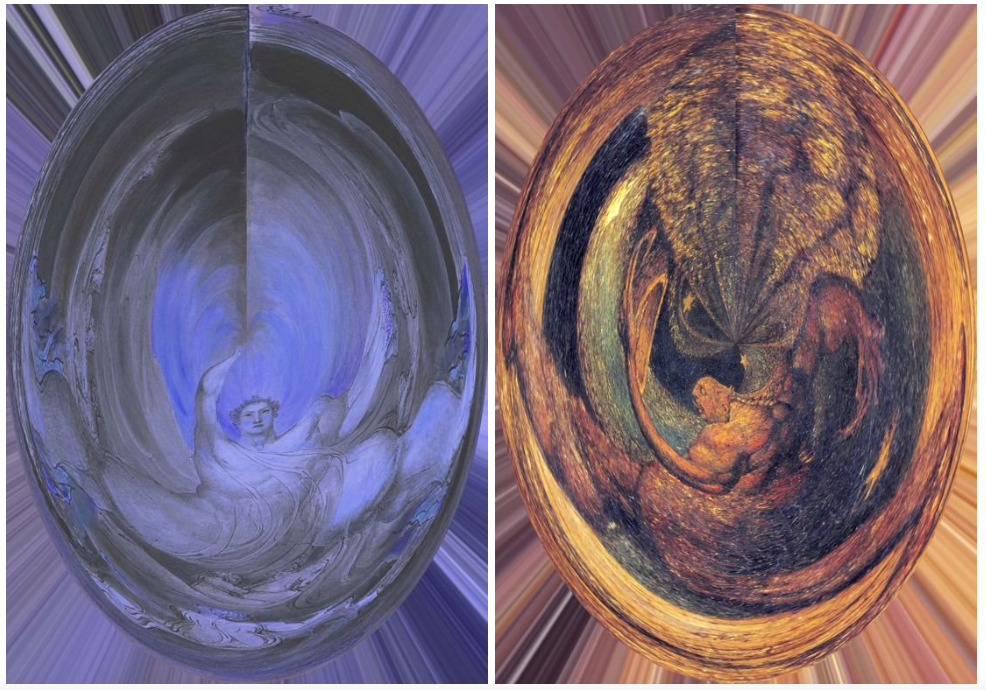
Преодоление ложного картезианского расщепления между телом/материей и разумом/дискурсом — и последующего иерархического разделения между, в частности, природным и культурным, или искусственным — является главным вопросом ксенофеминистического проекта. Обращаясь к взрастившей его повестке киберфеминизма, Париси раскрывает тему следующим образом: «Заявить о феминной материальности матрицы означало также, что материя и мысль принадлежат имманентному плану множественности, а не оказываются в ловушке дуалистической медиации между материей и знаком. Следовательно, связь между человеком и технологией означает прежде всего то, что тело и машина совершают аффективные контакты и подвергаются интенсивным изменениям» [Parisi 2017]. А потому, как пишет Хелен Хестер: «Технология социальна, равно как и общество технологично» [Hester 2018].
Для ксенофеминизма акцент на том, что в широком смысле можно назвать политиками тела, неотделим от акцента на технологической медиации: в конце концов, «Цифровые технологии теперь неотделимы от материальной действительности, которая их прописывает; они связаны таким образом, что одно может быть использовано для изменения другого в различных целях. Вместо того, чтобы спорить о примате виртуального над материальным или наоборот, ксенофеминизм различает точки силы и бессилия в обоих, чтобы распространить это знание в форме эффективных интервенций в нашу совмещённую реальность» [0×13].
Здесь следует прояснить терминологию. Материальное и виртуальное — это не пара подлежащих сравнению атрибутов. Виртуальное — двойник действительного (actual), а не материального. А материальное — это (квази) двойник дискурсивного, но не виртуального. Цифровая сфера не является полностью виртуальной — более того, она в значительной степени действительна. Сфера вне технологической или цифровой медиации не является ни целиком действительной, ни полностью материальной — она тоже имеет свои виртуальные и спекулятивные зоны. Материя тоже производит собственные виртуальные операции.
Отсылая к Делёзу и Гваттари, Лучиана Париси [Parisi 2004, 14] объясняет, что «виртуальное не стоит смешивать с областью возможного»: «Возможное, на самом деле, часто является отражением заранее определённой реальности, содержащейся в замкнутом наборе вариантов. Возможности не обладают реальностью, так как их реальность уже определена. Виртуальное не обозначает возможную реальность, оно является реальностью с точки зрения силы или потенциала, стремящихся к актуализации или проявлению. Таким образом, у виртуального нет надобности становиться реальным. Оно уже реально. Оно должно стать действительным (actual). Действительное не проистекает из другого действительного, но подразумевает появление новых композиций, становление, которое является ответным действием по отношению к виртуальному, а не его аналогом». Очевидно, эта связь между действительным и виртуальным не следует той же схеме, что и связь между «цифровыми технологиями» и «материальной действительностью, которая их прописывает». Приравнивание «цифрового» к «виртуальному» может привести к опасной близорукости в обращении с вопросами технологии.

Помня об этом, крайне важно рассматривать компутацию и технологическую медиацию внутри «мира онтологической имманентности», подразумеваемого повесткой ксенофеминизма. Наш доступ к миру всегда уже технологически опосредован — если мы определим язык, письмо и мысль как технологии, которые были развиты из спектра того, «на что способно тело». Общее растворение границ между естественным и искусственным, между материей и мыслью имеет серьёзные последствия для того, как мы трактуем понятие разума. Одна из основных и наиболее обсуждаемых позиций Манифеста — призыв переоткрыть разум в эмансипаторном ключе: «Ксенофеминизм — это рационализм. Утверждать, что разум и рациональность — предприятие “по своей природе” патриархальное, означало бы признать поражение. […] Рационализм как таковой должен быть феминизмом» [0×04].
Что это значит? Речь идёт не о том, чтобы заявить, будто модернистский проект рациональности можно запросто лишить его деспотических смыслов, коренящихся в картезианских положениях, и перекрасить его в «феминистические» цвета. Это утверждение скорее демонстрирует, что познание и разум не соответствуют границам, которые назначил модернистский проект рациональности — и нас не должна смущать потребность признать, что такое понимание стало возможным именно благодаря модернистскому проекту. Гораздо полезнее не отрицать, а перепрочитывать модернистскую рациональность — это даёт возможность воспользоваться ее эмансипаторным потенциалом и разработать новые инструменты, равно как и обнаружить, что разум оперирует и за пределами конструкта «человек» (особенно если этот конструкт ограничивается атрибутами «мужчины» и «европейца»). В интервью Станимиру Панайотову Лучиана Париси рассказывает, среди прочего, о том, как ксенофеминизм работает с понятием разума, который уже являет собой нечто отличное от модернистской рациональности: «Инструментализация механического воспроизводства рассуждения заставила разум выйти за границы человеческого вида. Рефлексии ксенофеминизма на тему отношения между гендером и технологиями можно, пожалуй, расширить, ведь нельзя реапроприировать разум, не рассмотрев тот факт, что машины оспорили и изменили саму логику разума» [Panayotov 2016].
Если мы рассматриваем «искусственное» или «машинное» как неотличимое от «естественного», мы также должны понимать, что если машины изменяют — или, скорее, проявляют — то, чем может быть разум, то это лишь потому, что он никогда не был исключительно «человеческим» (не говоря уже о «мужском», «европейском» или «белом»). Как уточняет Париси, «[…] предстоит проделать много работы, чтобы иметь возможность сказать: нам нужно возвратиться к просвещенческому проекту разума, чтобы затребовать и возвратить чужеродные версии мысли. Но чтобы затребовать и возвратить их, необходимо принять во внимание исторический момент, в котором, во имя разума, доминирующими предприятиями стали патриархат и колониализм. Наследие разума и история инструментального разума должны быть развенчаны и реконструированы, а не просто усвоены» [Panayotov 2016]. Проект открытости к «искусственному» разуму является, в сущности, недостаточным, если он не включает открытости к тому, что предполагает недуалистическая трактовка «природного» и «искусственного».
Физик-теоретик и исследовательница гендерной проблематики Карен Барад, в своём замечательном размышлении, основанном на исследовании квантовой теории поля, настаивает на том, что «[т]еории — это не просто метафизические высказывания о мире с
Здесь я, как и обещала, возвращаюсь к еретической идее Спинозы о Боге, который, как объясняет Париси, «не создал материю, но сам является материей, способной проявлять себя в непрекращающейся мутации тел и вещей и в природе» [Parisi 2004]. Любопытно наблюдать, что Хестер даёт практически идентичное определение приставке «ксено» в понятии «ксенофеминизм»: «В известной мере, ксено располагается в мутационном — в постоянной возможности того, что повторение может привести к возникновению различия» [Hester 2018]. В конце концов, Спиноза выстраивал способ мысли, сторонящийся распространённых версий иудео-христианской теологии, которые питали картезианское мировоззрение, и его критика идей Декарта как «оккультных» [Spinoza 2001, 229] ироничным образом перекликается с призывом ксенофеминизма «изгнать» эссенциалистский натурализм, который «воняет теологией» [0×01].
Снова-таки, по мнению Карен Барад, квантовая физика позволяет нам увидеть, чем может быть природа после «Природы» эпохи Просвещения: «Физика-философия Бора — особенно эффективная точка отсчёта для того, чтобы представить единство миров природы и общества и получить важные подсказки как теоретизировать природу отношений между ними, поскольку его исследования квантовой физики ставят вопросы не только о природе природы, но также о природе научных и других общественных практик. В частности, натуралистическая приверженность Бора лучшим научным теориям в понимании как природы природы, так и природы науки, привела его к тому, что он считал главным уроком квантовой физики: мы сами являемся частью той природы, которую стремимся понять» [Barad 2007, 26]. Это и есть наиболее сложный и радикальный поворот для концепта разума. Не разум (человека) исследует некую объективированную природу — разум является тем способом, которым вселенная себя конфигурирует. Разум — это функция вселенной.
В своём недавнем эссе The Terraforming Бенджамин Браттон следует похожей логике, которая признаёт «наше собственное познание и индустрию в качестве проявлений материи, которая регулярно и разумно воздействует сама на себя» [Bratton 2019, 25]. Браттон озвучивает очень важную идею, которую следует иметь в виду при любом разговоре об изменениях, якобы привносимых технологиями в сферу «разума»: «это беспокойство коренится не в том, на что способны новые технологии, а, снова-таки, в том факте, что они раскрывают явления, существующие испокон веков. Микроскопы не являются причиной появления микроорганизмов, но теперь, когда нам известно, что они существуют, мы больше никогда не сможем рассматривать поверхности так, как раньше» [Bratton 2019, 39]. Машины не являются причиной трансформации разума, скорее, они позволяют наблюдать — и использовать — разум таким образом, чтобы раскрывались те свойственные ему характеристики, которые были упущены из виду или затуманены (в некотором смысле, самим Просвещением!)
Связывая «искусственное» и «естественное», Браттон предлагает рассматривать «культурные достижения человека как удивительную, астрономически маловероятную карьеру материи, которая подаёт самой себе сигналы о мире посредством телесной абстракции и физического выражения» [Bratton 2019, 44]. Здесь, впрочем, стоит сделать паузу и провести проверку: кто именно подразумевается под словом «человек», и что именно оценивается в качестве «культурных достижений». Когда мы сможем продвинуться от идеи человека как смутной, но всё же исключающей и репрессивной конструкции дуалистического мировоззрения, к «человеческим существам», которые «не являются ни чистой причиной, ни чистым следствием, но частью мира в его открытом становлении» [Barad 2003], мы, вероятно, сможем отыскать новые пути для такого «человеческого», которое не будет пытаться сбежать от собственной тени, стремясь раствориться в понятиях «чужого» и «ксено».

Это осознание способно открыть множественные пути для реапроприации существующих систем и инструментов, которая позволит выйти к новым вариантам будущего, гостеприимным и пригодным для обитания. Это будущее рождается из логики, не поддерживающей больше сценарии противостояния Человека и Природы или Цивилизации и Варварства.
~
Ксенофеминизм в значительной степени касается возможности построить будущее. Но каков строительный материал? Как конструирует себя вселенная? Чем может быть будущее, если не очередным комплексом последствий, которые продолжат изменяться и мутировать в своём становлении? Пожалуй, это будущее множества со-возможностей, произрастающих из бывших пространств насилия и подавления. Манифест утверждает, что трансформация, которой оно требует — «это просачивание, направленная категоризация, стремление погрузить капиталистический патриархат белого супремасизма в море процедур, размягчающих его панцирь и демонтирующих его защитные укрепления, чтобы из клочков построить новый мир» [0×19].
В имманентном мире будущее не имеет приоритетных источников. Ксенофеминизм приветствует и питает возникновение всего того, что раньше могло быть маркировано как «ксено», «чужое» — он приветствует природу в её искусственности и податливости, в её универсальном безразличии к навязанной иерархии атрибутов. Именно в этом проявляются ксенофеминистические «высшие формы испорченности» [0×0C] — в жажде жизни, подразумевающей открытость к мутированию, в вечном празднике потенциальных возможностей.
Английский оригинал текста опубликован на Strelka Mag
Примечания:
* hyperstition — это неологизм, слово-бумажник, состоящее из приставки «hyper» (гипер) и «superstition» («суеверие»). Изобретатель этого концепта Ник Лэнд объясняет его значение следующим образом: «Hyperstition — это положительная обратная связь, компонентом которой является культура. Это можно определить как экспериментальную (техно-) науку самоисполняющихся пророчеств. Суеверие — всего лишь ложное убеждение, но hyperstition — в самом существовании своём как идеи — работает каузально, становясь причиной возникновения собственной реальности. (Carstens, Delphi. Land, Nick. “Hyperstition: An Introduction. Delphi Carstens Interviews Nick Land.” 2009. http://dev.orphandriftarchive.com/articles/hyperstition-an-introduction/)
Библиография:
Barad, Karen. Meeting the Universe Halfway. Durham and London: Duke University Press, 2007.
Barad, Karen. “On Touching — The Inhuman that Therefore I Am. (v1.1),” in Power of Material — Politics of Materiality, ed. Susanne Witzgall and Kerstin Stakemeier. Zürich and Berlin: Diaphanes, 2014. https://www.diaphanes.com/titel/on-touching-the-inhuman-that-therefore-i-am-v1-1-3075
Karen Barad. “Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter.” Signs: Journal of Women in Culture and Society, vol. 28, no. 3 (2003).
Bratton, Benjamin. The Terraforming. Moscow: Strelka Press, 2019.
Deleuze, Gilles. “Sur Spinoza. Cours Vincennes — St. Denis.” 16/12/1980. https://www.webdeleuze.com/cours/spinoza / в русском издании: Делёз, Жиль. Лекции о Спинозе. / Пер. Б. Скуратова. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. С. 76. Лекция от 12/12/1981.
Hester, Helen. Xenofeminism. Cambridge and Medford: Polity Press, 2018, e-book.
Laboria Cuboniks, “Manifesto on Xenofeminism: A Politics for Alienation,” https://www.laboriacuboniks.net/20150612-xf_layout_web.pdf; https://www.laboriacuboniks.net/20161101-xf_layout_web_RU.pdf.
Panayotov, Stanimir; Parisi, Luciana. “Interview with Luciana Parisi.” August 17, 2016. http://figureground.org/interview-with-luciana-parisi/
Parisi, Luciana. Abstract Sex. Philosophy, Bio-Technology, and the Mutations of Desire. London and New York: Continuum, 2004.
Parisi, Luciana. “Automate sex: Xenofeminism, Hyperstition and Alienation,” in Futures and Fictions, ed. Henriette Gunkel, Ayesha Hameed and Simon O’Sullivan. London: Repeater, 2017, e-book.
Spinoza, Benedict. Ethics. Translation by W.H. White. London: Wordsworth Classics of World Literature, 2001.
