Михаэль Хагемейстер. Гибридная идеология и изобретение традиции
Материал подготовлен на средства, собранные с помощью наших пользователей.
В последние годы русский космизм, понимаемый как ряд религиозно-философских, мистических и
В интервью художественному критику Андрею Шенталю он рассказал о своих исследованиях в этой области, различиях в мысли Николая Федорова, Константина Циолковского и Владимира Вернадского, а также об экзотизации и причинах популярности русского космизма на Западе.

Вы посвятили свою опубликованную в 1989 году диссертацию русскому философу Николаю Федорову — «герою вашей молодости». В то время даже в СССР он был известен лишь среди диссидентов. Как вы открыли его и что произвело на вас такое впечатление?
Я узнал о Федорове в 1970-х, мой преподаватель упомянул его мельком в лекции: совершенно неизвестный русский мыслитель, который хотел воскресить всех предков. Я тогда подумал, что это либо какое-то безумие, либо этим стоит заняться. Меня заинтриговала не идея преодоления смерти в будущем (не очень оригинальная сама по себе), а идея воскрешения всех предыдущих поколений, которая бы разрешила проблему «жертв истории». В то время я был близок к марксизму, как и множество людей моего поколения — так называемых «68-ников». Проблема «жертв истории», важная для таких философов как Вальтер Беньямин, Эрнст Блох, Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно, состояла в следующем: если человечество достигнет «царства свободы», которое должно наступить в конце истории в виде коммунизма, то что делать со всеми поколениями, который страдали и умерли, так и не вкусив плодов прогресса? Ведь у них не было возможности попасть в этот рай на земле.
В то время Федоров был известен только нескольким специалистам. Мне посчастливилось найти не только его труды, в том числе и первое издание «Философии общего дела», но и работы его последователей — Александра Горского, Николая Сетницкого и российских писателей-эмигрантов — в специальной коллекции в библиотеке Базельского университета. Там же я обнаружил брошюру под названием «Смертобожничество». Затем я начал читать самого Федорова и был поначалу сбит с толку, но потом пришел в восхищение. Мне удалось связаться с его последователями в Москве, и они показали мне другой путь к его философии. Я встретил старую «федоровку» Ольгу Сетницкую, дочь Николая Сетницкого, которая жила за городом. В то время иностранцам было запрещено выезжать за черту города, но я проделывал это неоднократно. Она рассказала мне о движении федоровцев в 1920-х и 1930-х, к которому принадлежал ее отец, и снабдила меня редчайшими материалами. Я также встречался со Светланой Семеновой и Арсением Гулыгой, которые в 1982 году со скандалом выпустили первое советское издание работ Федорова.

Я заметил, что западная публика не сразу принимает мыслителей, которые ассоциируются с «русским космизмом». Порой они нуждаются в ролевой модели вроде Уильяма Блейка, кто был бы сравним с ними по своей эксцентричности. Как вашу книгу “Nikolai Fedorov: Studien zu Leben, Werk und Wirkung” приняли в Германии?
Я писал ее для специалистов и в первую очередь для самого себя. Ее тираж был почти такой же, как у первых работ самого Федорова: большая часть из 400 копий отправилась в библиотеки. В то время было проведено несколько конференций, посвященных русской философии — западная публика открыла для себя Николая Бердяева, Павла Флоренского, Алексея Лосева и Федорова. Мою книгу хорошо приняли, на нее написали два десятка рецензий, правда, в основном за рубежом: в США, Франции, Италии и даже в Советском Союзе. В Германии о ней писали не так много. Гулыга, с которым я был в то время знаком, написал статью для немецкого философского журнала. Он продвигал Федорова и пытался убедить известного издателя философии Рихарда Мейнера выпустить подборку его работ на немецком. Мы перевели около 50 страниц, но получили следующий ответ: это интересно, мы не знаем, что это такое, но это точно не философия. И я бы с ними согласился: в традиционном западном понимании Федоров не философ. Гулыга, однако, смог убедить Мейнера опубликовать «Диалектику мифа» Лосева на немецком. В контексте русской и советской философии это интересная и удивительная книга, но люди в Германии не могли понять, что это такое. Ее почти никто не покупал. Достаточно успешной оказалась, однако, антология «Новое человечество» (Die Neue Menschheit), которую я редактировал совместно с Борисом Гройсом. Выпущенная престижным издательством Suhrkamp Verlag, она впервые знакомит немецких читателей не только с Федоровым, но также Константином Циолковским, Валерианом Муравьевым, «биокосмистами» и другими мыслителями.
Для меня “русский космизм” — это синкретическая, гибридная идеология, которая сочетает в себе ряд разных ключевых особенностей: паранаука, эзотерика, необогостроительство, Нью Эйдж мышление — лишь некоторые из них.
Вы называете русский космизм «гибридным идеологическим понятием» и «типичным примером изобретения традиции (с желанием поддержать традицию изобретательства)». Что это за идеология и почему она гибридна?
Понятие «русский космизм» появилось в 1970-х и питало националистический дискурс русской идентичности в постсоветской России. До этого «русский космизм» не существовал даже в виде термина. Федор Гиренок утверждал, что это он придумал теорию «русского космизма» в конце 1970-х. Насколько я знаю, одним из первых источников, в которых употреблялся этот термин, стала статья Ренаты Гальцевой. Эта статья была посвящена Владимиру Вернадскому и появилась в пятом томе “Философской энциклопедии” (1970). Такие люди как Гулыга и Семенова использовали этот термин для продвижения Федорова, но я не вижу в нём никакой эвристической ценности. Для меня “русский космизм” — это синкретическая, гибридная идеология, которая сочетает в себе ряд разных ключевых особенностей: паранаука, эзотерика, необогостроительство, Нью Эйдж мышление — лишь некоторые из них.
На мой взгляд, те мыслители, которых относят к “русскому космизму”, настолько далеки друг от друга в своих целях и исследовательских методах, как и в самом их мировоззрении, что у них в принципе нет ничего или практически ничего общего. Возьмём, к примеру, пятиконечную звезду Арсения Жиляева в фойе Haus der Kulturen der Welt (HKW) (выставка “Искусство без смерти: русский космизм”). Пять лучей звезды олицетворяют так называемых “космистов” Циолковского, Федорова, Вернадского, Чижевского и Флоренского. Но что общего у православного философа и богослова Флоренского, скажем, с монистом и панпсихистом, пионером ракетостроения Циолковским?
Как говорят защитники “русского космизма”, его концепция пневматосферы (сферы духа) близка к ноосфере (сфере человеческого мышления), предложенной Владимиром Вернадским.
Да, Флоренский упоминал пневматосферу в своей переписке с Вернадским, но достаточно ли этого, чтобы называть его “космистом”? Я неплохо знаком с трудами Флоренского, а также провел немало времени над работами Циолковского. Это было уже в 1970-х, когда я покупал его “Калужские издания” в антикварных магазинах — в то время это было не так уж дорого. “Космическая философия” Циолковского — это странный бриколаж (я бы не назвал её философией), сочетающий в себе идеи панпсихизма, теософии и спиритуализма, который он сам рассматривал как работу гения и искупителя. Однако, всё это абсолютно чуждо, например, Флоренскому и другим “космистам”. Что общего у этих мыслителей? Для защитников “русский космизм” начинается с митрополита Илариона Киевского, включает в себя Радищева, Пушкина, и в конце концов едва ли не каждый подлинно русский писатель и мыслитель может быть назван “космистом”.
“Космизм” в моем понимании — это изобретенная традиция, миф, и я должен отметить, что Борис Гройс поддерживает этот миф, когда пишет, что Циолковский загорелся идеей полета в космос под влиянием работ Федорова с целью отправить восставших предков к другим планетам. Это, я должен извиниться, полная бессмыслица. Циолковский и не думал ни о каких возрожденных предках. Его решение проблемы смерти невозможно сравнивать с проектом рукотворного всеобщего воскрешения Федорова. Для Циолковского смерть просто не существует, это иллюзия несовершенного человеческого разума, поскольку атом бессмертен и всего лишь переходит из одной комбинации в другую. В то же время грандиозный проект Федорова нацелен на воскрешение человечества во всей его полноте и подразумевает всех когда либо живших людей. Циолковский был заинтересован исключительно в создании расы сверхлюдей будущего и в то же время активном истреблении всех низших существ.
Флоренский же, будучи православным богословом, отличается и от того, и от другого: он верил в то, что воскрешение будет совершено Богом в конце времен. Действительно, когда Циолковский учился в Москве, он ходил в Румянцевский музей и встретил Федорова, который работал там библиотекарем. Однако нам неизвестно, делился ли Федоров своими идеями с этим молодым человеком. Известно, что он довольно неохотно обсуждал свои теории, поскольку не хотел, чтобы они были опубликованы при его жизни. Нет ни малейших оснований полагать, что Циолковский находился под влиянием идей Федорова. В любом случае, его космические проекты были скорее вдохновлены Жулем Верном и Камилем Фламмарионом. Легенда о том, что Циолковский был учеником Федорова, была создана исключительно для того, чтобы продвинуть Федорова, пользуясь именем Циолковского, который на тот момент был всеми признанной фигурой. Это был всего лишь тактический ход и некоторые люди открыто признались мне в этом.
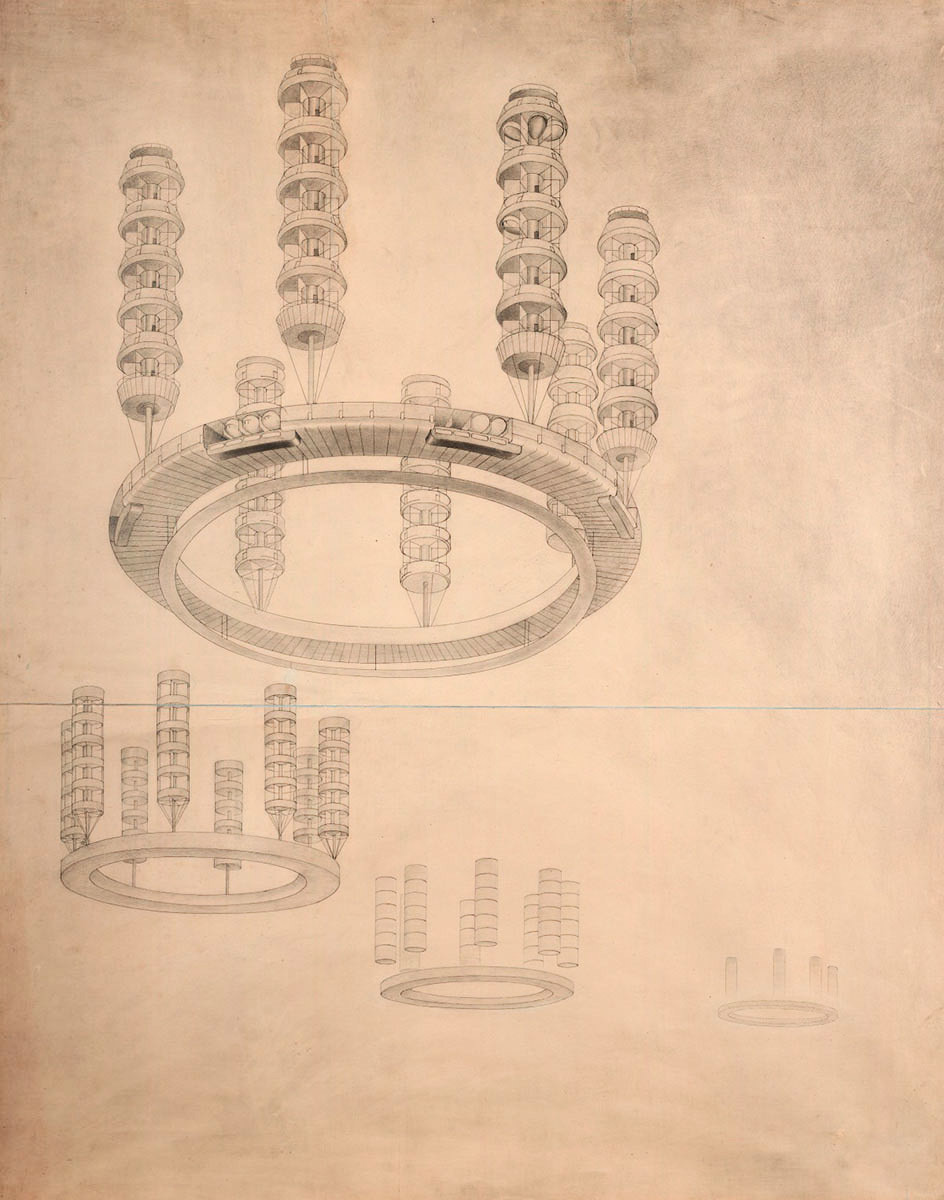
Немного полемизируя, я определяю “русский космизм” через то, что Борис Гройс однажды сказал о “русской душе”. Это “рыночная стратегия самопродвижения на Западе людей, позиционирующих себя как русских авторов, интеллектуалов или художников”. Согласно Гройсу, любому, кто пытается сделать себе имя на Западе, важно найти в себе что-то уникальное, и превратить это в бренд. Западу не нужна вестернизированная Россия, ему нужна Россия экзотическая. “Русский космизм” отвечает на этот запрос как нельзя лучше. Когда я смотрю на звезду Жиляева, объединяющую пятерых “космистов” вокруг образа преображенного Христа в середине, единственное, что приходит мне в голову, это то, что Циолковский не стеснялся сравнивать самого себя с Иисусом Христом, которого называл по-товарищески “учителем из Галилеи”.
То есть это была временная тактика, от которой в итоге так и не отказались?
В советские времена Федорова называли “чистым материалистом”, теперь же его последователи говорят о нем как о религиозном мыслителе, чьё учение открывает третью фазу после Ветхого и Нового заветов — “активно-ноосферическое христианство”, чем бы оно ни было. Я не теолог, но то, как Федоров решает проблему смерти кажется мне несовместимым с христианскими толкованиями греха, смерти и искупления. Я имею в виду, что хотя сам Федоров был христианином, теолог не может принять его идею рукотворного воскрешения, с помощью которого можно было бы преодолеть смерть и предотвратить “трансцендентальное воскрешение”. То есть то, которое должно было бы произойти в конце времен и привести к окончательному разделению человечества на обреченных и тех, кто спасется.
Проект Федорова больше всего напоминает учение о всеобщем апокатастасисе, восстановлении всего сущего или же всеобщем спасении. Однако все христианские конфессии отвергают этот концепт как еретический, поскольку это означало бы, что начало и конец становятся едины, тем самым лишая всякого значения исторический процесс спасения. Я обратил внимание на то, что решение, предлагаемое Федоровым для проблемы “жертв истории” было в действительности материалистическим, принадлежащим этому миру, и не принимает в расчет ни Бога, ни
Примечательно, что некоторых русских философов, особенно тех, кого называют “космистами” хорошо встречают на Западе. Очевидно, русское мышление воспринимается как нечто странное и экзотическое — привлекательное для эзотерически настроенных людей.
Вы предлагаете материалистическое толкование идей Федорова, согласно которому воскрешение является сугубо имманентным актом. Это единственная интерпретация, на основе которой его идеи могут быть релевантны в современном контексте. Однако, по Федорову, религия является этическим горизонтом, направляющим науку. Что случится при полной секуляризации его философии?
Разумеется, Федоров часто упоминает Бога и Христа и говорит о “Царстве Божьем” и об исполнении божественной воли, но это означает лишь то, что преобразование нашей реальности здесь, на земле, руками человека распространится и на все небесные миры. Он опирается на пример Христа, преодолевшего смерть с божьей помощью, но не полагается на божественное вмешательство. Для меня важна его этическая мотивация, Федоров называет её “супраморализм” и это понятие является центральным в его мысли. Мы не должны просто наслаждаться нашей текущей жизнью и забывать о своих предках, мы не можем мечтать о рае на Земле, не заботясь о судьбе прошлых поколений. Сегодняшние трансгуманисты и акселерационисты ссылаются на Федорова ошибочно, поскольку они стремятся к самооптимизации и бессмертию только для себя. Люди вроде ранних “федоровцев” Сетницкого и Горского, а также Семеновой, верили, что однажды проект Федорова по всеобщему физическому воскрешению будет возможно реализовать. Лично я в это не верю и не заинтересован в вечной жизни. Эта перспектива кажется мне непривлекательной и даже ужасающей, но как историк я заинтересован в воскрешении и сохранении прошлого.
Гройс идет ещё дальше и рассматривает проект Федорова как радикализацию социализма, несмотря на открыто враждебное отношение русского мыслителя к нему. Согласны ли вы с такой интерпретацией?
Я уже упоминал в своей книге, что многие положения сближают Федорова с Марксом: роль труда в процессе антропогенеза, “подлинное воскрешение природы” и, что самое важное, практический подход к миру, резюмированный в знаменитом 11-м “Тезисе о Фейербахе”: “до сих пор философы лишь по-разному интерпретировали мир; задача же — изменить его”. Однако помимо этого я не вижу больших сходств. Маркс и Энгельс никогда не рассуждали о рае на Земле, преодолении смерти и жертвах истории.

Также существует тенденция трактовать труды Федорова через беньяминовское понимание истории.
У Беньямина мы обнаруживаем знаменитый образ Angelus Novus, ангела истории, который, влекомый штормом прогресса в будущее, оглядывается назад и видит жертв прошлого. Он хочет спасти их, пробудить усопших и собрать воедино разбитые осколки, но судя по всему, не в состоянии это сделать. Беньямин верил, что у этой проблемы должно быть решение. На него сильно повлияло иудейское мессианство — вера в мессию, который придет и восстановит все. Русский мыслитель Федоров был озабочен той же проблемой, но его решение выглядит совершенно иначе.
Что касается отношения Федорова к природе, согласно его сторонникам, его (а также Флоренского и Вернадского) анти-эксплуататорские взгляды на Землю остаются актуальными в рамках экологических теорий. С моей точки зрения, предложенное им понятие “регуляции природы” могло бы быть противоядием от пораженческих дискурсов вокруг Антропоцена. Тем не менее его видение планеты как космического корабля сегодня кажется довольно пугающим. Джеймс Лавлок в своей Гипотезе Геи использует похожий термин “саморегуляция”, демонстрируя что равновесие в окружающем мире отличается крайне сложным строением и хрупкостью.
Экология — современное понятие, и его также используют для продвижения этих мыслителей. В то же время, это отличный пример того, насколько сильно они отличаются друг от друга. Для Федорова природа — это слепой и смертоносный противник, которого необходимо одолеть. “Регуляция природы”, о которой он говорит, подразумевает что все, созданное природой, включая самого человека, должно быть преобразовано в нечто, созданное руками человека. Федоров не устаёт повторять “Наше тело должно быть нашим делом”. До тех пор пока люди приходят в этот мир рождаясь, они обречены на смерть. Следовательно, они должны постепенно превратить себя из уязвимых созданий природы в саморегулирующиеся, независимые искусственные сущности. Экология хочет спасти природу, “регуляция” хочет победить её. В некотором смысле отношение Федорова к природе близко к Циолковскому. Циолковский стремится уничтожить все несовершенные, бесполезные и вредные формы жизни, животных, растения, неполноценных людей. Среди его монструозных проектов — повсеместная дезинфекция, уничтожение тропических лесов, осушение морей и промышленная обработка земной атмосферы. В итоге Земля должна служить лишь источником энергии и сырья для обитателей неба, давно покинувших свою “колыбель”. Таким образом, взгляды Циолковского открыто антиэкологичны. Однако тот факт, что Циолковский рассматривает всю вселенную как одно живое существо (“животное”), одушевленный саморегулирующийся организм, в некоторой степени связывает его с гипотезой Геи Лавлока. Однако, эти идеи уже присутствовали у древних атомистов и в философии Ренессанса, и в них нет ничего оригинального. Циолковский и остальные так называемые “космисты” не имеют ничего общего с нашим пониманием экологии.

А как же Вернадский?
Вернадский тоже отличается. Это очень оригинальный мыслитель, и его концепт ноосферы получает все больше внимания в связи с понятием Антропоцена. Вернадский куда более серьезный мыслитель, чем все так называемые “космисты”. Его философские труды — “Мысли натуралиста” и другие — на уровень выше текстов, скажем, Циолковского. Циолковский был выдающимся первопроходцем в области ракетостроения, но его “философия” весьма примитивна.
Можно ли говорить о том, что в отличие от русских интерпретаторов иностранные исследователи космизма, такие как Джордж М. Янг и вы сами, считаете тоталитарным мышление, ассоциируемое с “русским космизмом”?
Решение проблемы смерти у Федорова действительно тоталитарно, поскольку цель его проекта всеобъемлюща. Валерий Брюсов в рассказе “Торжество науки” (1918) описывает воскрешение выдающихся людей в “Теургическом институте”. В самом конце повествования рассказчик просит: “Не воскрешайте меня!”. Это было бы невозможно в случае Федорова, поскольку все без исключения должны быть воскрешены. Федоров развивает образ человечества, которое распространило свое “ноократическое” правление на всю вселенную, превратив себя во всемогущую и бессмертную единую всеобщую сущность, таким образом приобретя статус божества. Однако сочетание этих двух прилагательных — “единую” и “всеобщую” само по себе является знаком тоталитарного мышления. Циолковский, продвигающий идею уничтожения несовершенных форм жизни, позволяет себе решать, кто совершенен, а кто нет — нам знакомы ужасающие примеры подобной евгеники. Однако я не вижу ничего тоталитарного, например, у Вернадского.
Что до Янга, я нахожу его книгу “The Russian Cosmists: The Esoteric Futurism of Nikolai Fedorov and His Followers” недостаточно критической. Он относится к этим людям с чрезмерной симпатией, в то же время акцентируя внимание на эзотерике. Мне эзотерика чужда, а подобные мыслители никогда не были мне близки. Примечательно, что некоторых русских философов, особенно тех, кого называют “космистами” хорошо встречают на Западе эзотерики и приверженцы Нью Эйджа. Например, труды Павла Флоренского в Германии недавно были опубликованы и распространялись антропософами. Очевидно, русское мышление воспринимается как нечто странное и экзотическое — привлекательное для эзотерически настроенных людей.
На английском языке материал опубликован на сайте INRUSSIA.COM