Различие и идентичность: Стас Шурипа о художественном дискурсе после 1960-х
Начиная с 1970‑х оформляется поле современного искусства, contemporary art, которое следует отличать от modern art, исторически связанного с первой половиной XX века. Его называют постконцептуальным искусством, поскольку оно включает в себя развитие достижений концептуального искусства применительно к каким‑то более частным случаям. Какие это достижения? Как мы помним, первая волна концептуализма обращалась в основном к самому фундаментальному — к проблемам природы искусства, произведения. Если совсем кратко, они относились к искусству как к идее, а не как к материальному предмету. Отсюда мультимедийность и установка на активное соучастие зрителя в процессе интерпретации, смысл работы-как‑идеи возникает при участии зрителя.
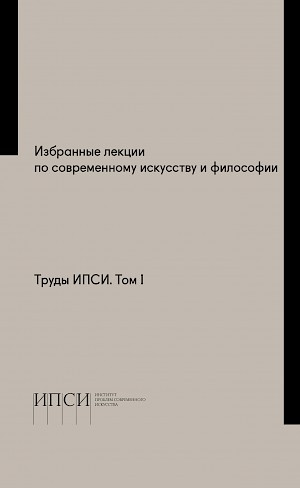
Уже в начале 1980‑х появился термин «тематически ориентированное искусство», которым описывалась ключевая для постконцептуальных практик тенденция: арсенал новых методов применяется для исследования тех или иных тем или вопросов, имеющих социально-политические и экзистенциальные смыслы. Один из первых ярких примеров такого подхода — Брюс Науман. У него не считывается ни узнаваемая творческая манера, ни какая‑то собственная, только им разрабатываемая проблематика. Он размышляет о вещах, всем доступных, о связи тела и власти, о практиках контроля и попытках художника от них ускользнуть и делает это без претензий на пластическую или визуальную изысканность, уникальность. Мы видим слепки рук, видео, похожие на учебные ролики, клетки, часы — все это мог бы сделать и кто‑то другой. Уникальны здесь структура и напряжение мысли, концептуальные жесты или ходы, но их сложно увидеть, их надо почувствовать, прожить.
За последние лет тридцать многое изменилось: появились новые технологии, выросла роль рынка, большее число людей интересуются искусством. На влияние этих и других исторических сил художники реагируют по‑разному: кто‑то поворачивается к традиции или переизобретает прошлое. Для нас сейчас важно не это, а тот канон современного искусства, который сформировался в 1970‑е годы. Он предполагает, что художник обращается к выходящей за рамки искусства проблеме, используя любые средства, какие сочтет оптимальными, — рисунок, танец, текст, видео, — при этом не отвлекаясь на эстетику: лучше совсем ее игнорировать или хотя бы намеренно банализировать. Надписи из неоновых трубок Брюса Наумана — «жизнь — смерть», «надежда», «желание», «мечта» — значительно больше и сильнее, чем любая эстетика, смыслы этих слов будут конфликтовать с любым визуальным воплощением — и победят. Но для Наумана эти слова — часть анонимной массовой реальности, всполохи социальной тревоги, и они существуют неотделимо от формы — неоновых трубок, используемых в США во всех барах и маленьких магазинах. И дело здесь не в том, как слова из ламп выглядят, а скорее в том, что эти лампы для сотен миллионов людей — знак частной предпринимательской инициативы. Такой визуальный язык не создает образов, а напрямую выражает затаенные экзистенциальные страхи маленького человека в толще позднекапиталистического общества.

Еще один важный фактор — рост значения теории, причем не только для понимания искусства, но и для производства работ. И не только теория искусства (хотя современная теория искусств включает все больше междисциплинарных исследований), но и социология, антропология, философия — все они оказываются для художников инструментами производства смыслов. Это не значит, что художник должен объяснять свою работу непонятными словами. Наоборот, концепции появляются на уровне наблюдений реальности, художник сознает, с каких позиций и в какой оптике он наблюдает то, о чем говорит в работе. Да и сама реальность в информационном обществе все больше выстраивается из знаний. И тайна этой реальности просвечивает в том факте, что очень трудно (некоторые считают, что невозможно) занять позицию на расстоянии от нее, увидеть жизнь при капитализме снаружи. Поскольку на множестве уровней и сложным образом мы в нее включены, втянуты.
Теоретическое знание, дискурс важно именно потому, что помогает различать в непосредственно с нами происходящем, в повседневном более общие структуры или силы, позволяет осмысливать реальность, свое в ней положение. В конце прошлого века конгломерат философских, социологических, лингвистических теорий и их фрагментов, совместимых между собой в таком аналитическом и критическом взгляде, называли «критической теорией», critical theory. Это не философия или теория общества или культуры в чистом виде, скорее нечто более прикладное, набор инструментов.
Критическую теорию начинали разрабатывать еще в 1930‑е годы мыслители Франкфуртской школы и те, кто был близок им по духу. Точкой отсчета было понимание того, что капитализм невозможно критиковать с
Следующие шаги в критической теории были сделаны в 1950–1970‑е годы французским постструктурализмом. Это такая философия, которая утратила категориальную чистоту XIX века и где философ не столько строит очередную систему, сколько размышляет о лингвистических, культурных, социально-экономических условиях собственного философствования. С этого времени связи искусства и философии продолжают расти, и сегодня сложилась традиция взаимодействия, когда важные события в искусстве, например большие выставки, сопровождаются конференциями с участием ведущих философов.
Если взглянуть с другой стороны, от практики, то лингвистическая деятельность составляет внутреннюю часть самой работы: мы обсуждаем работу с коллегами, объясняем, относимся к ней как к высказыванию. Часто художник не то чтобы действует по каким‑то особым правилам, чтобы на выходе создать нечто опознаваемое как искусство, скорее он сам объявляет нечто искусством, будь то холст, покрытый пятнами, или взятый прямо из повседневности предмет. Здесь имеет место то, что в лингвистике называется перформативным актом: это высказывания вроде «я обещаю» или «я говорю вам, что…» — их смысл идентичен их совершению. Подобное делал еще Дюшан, когда изымал из реальности заурядные предметы и называл их искусством. В таких случаях оказывается, что лингвистические структуры первичны, а внешний вид работы, картинка вторичны.
В искусстве модернизма такого почти не было. Сто лет назад абстрактное искусство для многих было непонятным, но объяснения тут помогали мало, так как проблема заключалась в том визуальном языке, на котором говорили картины, в их «как». В современном искусстве чаще бывает наоборот: визуальный язык вполне читаем или даже не отличается от повседневного, но почему нам показывают именно это, а не что‑нибудь еще? И оказывается, что нужно знать что‑то еще, какую‑то фоновую историю, дискурс, не данный в картинке явно. Искусство и теория сегодня — это близкие поля с размытой границей между ними. Кому‑то это нравится, кому‑то нет, но так устроена современная культура. И поэтому при интерпретации произведений возникают вопросы, которыми искусство первой половины прошлого века занималось мало. Вопросы такие: кто говорит? с помощью чего доносит свое высказывание? и почему (для чего) именно в такой форме, на таком языке, такими оборотами? Язык может пониматься как угодно, это может быть язык действия или объектов, или постдокументального видео, без ограничений.
Если спросить начинающего художника «кто говорит?», он ответит «я». Но «я» бывают разными, это известно не только из философии языка, к концу XX века к этому пришли все школы мысли. В марксизме «я» сконструировано политэкономическими отношениями, в психоанализе — бессознательным, в постструктурализме — властью-знанием, языком и так далее. В любом случае, «я» — это не природная данность, а скорее продукт, произведенный таким‑то обществом в такой‑то исторический момент.
Этим много занимался Мишель Фуко. Основная идея первого периода его творчества заключается в том, что любой субъект, тот, кто говорит «я», это эффект и узел машинерии власти, пронизывающей все общество и всех, кто ему принадлежит, постоянно реконструирующей себя в их практиках и коммуникациях. Фуко в этом развивал начатую Жаком Лаканом и Луи Альтюссером критику общепринятого в Новое время понятия субъекта. И Лакан, и Альтюссер показывали, как идентичность субъекта подспудно навязывается извне, усваиваясь вместе с общественными условностями. Субъект оказывается знаком, маской, коммуницирующей с другими масками в общественной системе. Точнее, субъект — это набор масок. Здесь сказываются следствия психоанализа Фрейда. Ведь ценность психоанализа не в том, вылечил ли все‑таки Фрейд кого‑нибудь или нет, а в том, что ему удалось найти слова, чтобы описать глубинную раздвоенность, расслоенность современного человека.
Современная культура состоит из образцов преодоления этой раздвоенности. Если от персонажей масскульта ждут примеров внутреннего единства, то от художника обычно ожидается виртуозность в управлении собственной раздвоенностью (если не множественностью), а это, наверное, сложнее. Поэтому в современном искусстве как никогда актуальны вопросы о роли художника, о том, как он понимает свою ответственность за сказанное, какие условия и обстоятельства учитывает, как видит границы собственного высказывания, его возможные эффекты и интерпретации.
В середине 1980‑х возникает термин «постгуманизм». Он довольно быстро оказался востребован и карикатуризирован в массовой культуре, во всевозможных историях про киборгов. В первоначальном виде эти идеи принадлежали критической теории с освободительной направленностью. В «Манифесте киборгов» (1985) феминистка Донна Харауэй пишет о том, что теперь, когда техника и электроника так быстро врастают в тело, имеет смысл говорить о кибернетической организации человека, сокращенно «киборг». В начале 1990‑х Джеффри Дейч организовал в
К 1970‑м годам эти «большие понятия» растворяются, теряют свою силу. Что было связано, в частности, и с малоизученной, но одной из самых мощных исторических сил — с развитием техники. Массовое распространение электронных устройств, например, абсолютно изменило способы получения информации (а она ведь буквально информирует, придает потребителю форму), структуру знаний, роль общего интеллекта. Или потребление, оно существовало и в XVIII веке, но тогда потребителями были пара процентов жителей Парижа и Лондона, по‑настоящему массовое потребление разверзлось в 1950‑е, начиная с США, где большая часть населения могла постоянно тратить деньги на бытовые новинки. Рост влияния маркетинговых схем на реальность связан с ростом рынков и с эволюцией техники. Адресат, подразумеваемый в рекламном сообщении, это уже далеко не тот кантовский трансцендентальный субъект, на которого в течение двух веков держала равнение западная цивилизация. Задача рекламы — убедить быстро и ненадолго, и линейное алфавитное письмо для этого препятствие: вспомните рисованную рекламу 1950‑х с ее длинными фразами и рукописного вида буквами — надо напрягаться, чтобы прочесть и тем более чтобы поверить. Культура, основанная на алфавитном письме, «галактика Гуттенберга», привыкла к определенному порядку усвоения информации. Вспомним образцовое средство воспитания, европейский роман XIX века — «Братья Карамазовы», «Анна Каренина», «Мадам Бовари». Как им надо пользоваться? Не просто считывать знаки, так могла бы и машина. Чем дальше читаешь, тем глубже оказываешься в его мире. Буквы, слова, предложения порождают череду образов (как в кино, только читатель производит их самостоятельно), и эта галлюцинаторная реальность оказывает на читателя воспитательное, порой идеологическое влияние. Единственный минус — такие вещи слишком медленно разворачиваются и слишком сложны, чтобы с их помощью убеждать потребителя; все должно быть мгновенно. Поэтому коммерческая визуальная среда эволюционировала в сторону доалфавитных и даже дописьменных культур.
Французский антрополог Андре Леруа-Гуран еще в 1960‑е заметил структурное сходство рекламных объявлений и архаического способа записи, который он называл «мифограммой». Как в тех письмах, которые коренные американцы писали в конгресс, — фигурки птиц, рыб, выдр, какие‑то линии, а все вместе означает, что вожди союза племен с перечислением всех их регалий просят не забирать у них землю. Просвещенные отцы-основатели коллекционировали эти письма как любопытные экспонаты. Подобным образом, как репрезентация мифа, действуют и массмедийные месседжи. Все это часть большой тенденции, изменения в способах передачи данных влекут за собой изменения всего строя восприятия и психической системы. Считается, что время больших идей, длинных творческих биографий кончилось, периоды, направления, биографии — все это проходит быстро. Такова культура цифровой эпохи, в ней не возникает такого спроса, такой фигуры читателя, у которого есть терпение читать не по диагонали.
Мы подошли к центральной проблеме конца XX — начала XXI века в искусстве и не только — децентрализация, распад классической модели субъекта. Кто такой субъект? Тот (или та), кто воспринимает явления от первого лица, мыслящая часть души, так сказать. И художник, и зритель — тот, кто делает, и тот, кто воспринимает искусство. Распад классической модели субъекта философы описывали по‑разному. Хайдеггер отказывается от категории субъекта в пользу «вот-бытия» и его изменчивости. В середине 1960‑х Жиль Делез и Феликс Гваттари, авторы, опередившие даже свое прогрессивное время, говорят о «шизофреническом субъекте», имея в виду не клинический диагноз, а структурное сходство. Это текучий субъект, распыляемый на сетях социальных отношений, власти, дискурсов. Господствовавшие в западной культуре представления о субъекте как об иерархичной структуре, где центр господствует над периферией, высокое над низким, с этой точки зрения параноидальны. В отличие от
Этот общий исторический поворот к множественному, проходящее через весь XX век сознание «небытия Единого», как говорит Ален Бадью, нашло свое выражение и в развитии мультимедийного искусства в 1960–1970‑е годы. Мультимедийным можно назвать все современное искусство, поскольку даже когда художник прибегает к традиционным средствам, к живописи или скультпуре, он использует их только как особые инструменты для выражения идеи, как «не-видео» или «не-перформанс». Такое искусство несводимо к внутренним правилам или логике медиума, часто оно включает текст, картинки, объекты, его образцовая форма — инсталляция.
Развитие мультимедийности было связано с перформансом и видео. Вначале эти две практики были нераздельны — взяв в руки камеру, художники начинали снимать себя. Это была критика мейнстримного искусства, в частности минимализма, критика идеи произведения как уникальной, единственной и неповторимой вещи. Сравните практику Дональда Джадда с его требованиями «единства и мощи объемов» и работу Вито Аккончи Following piece (1969; можно перевести и как Преследование, и как Следующая работа).
У Джадда много очень интересных тонкостей, но для него они — шаги на пути к некоему квазиабсолюту: один объект, одно пространство, одно восприятие. Это уже не то единство, которое требовалось для созерцания фигуративной картины в европейской традиции. Там всегда была точка схода перспективных линий, зеркальное отражение точки, откуда лучше всего смотреть на картину, с помощью взгляда подчинять себе ее, заряжая ее своим ощущением времени. Зритель-индивидуум и картина как зеркало мира — один на один. В минимализме сложнее. Единство, требуемое Джаддом, это единство восприятия реального пространства с объектами в нем, без иерархий и деталей. Джадда интересует, как мы воспринимаем встречу с самим пространством, чистым объемом. В этом смысле его объекты мне напоминают теорию Дейла Карнегги о дружелюбной американской улыбке как универсальном и бессмысленном сигнале, огоньке стенд-бай, означающем возможность коммуникации. Или сожжение вьетнамских джунглей напалмом — там тоже работает чистый объем, стирающий детали.
У Аккончи никакого единства, нет и произведения, только документация, несколько фотографий плохого качества. Эти фото скорее всего постановочные — неизвестно, имел ли место сам перформанс. Есть авторское описание работы: «Выбрать случайного прохожего и незаметно преследовать его до тех пор, пока он не зайдет в частное пространство, дом, офис и т. д.». Здесь тоже много смыслов при минимуме условий. Частное и публичное, другой и чужой, контакт и подозрительность, документальность и вымысел, все социальные знаки выстроены в открытую структуру.
Так, в новых на тот момент формах художественной практики, видео, инсталляции, перформансе, хеппенинге выразился исторический общекультурный поворот от единого к множественному. Художники и раньше понимали ценность множественного, это ведь необходимый элемент драматизации, условие выразительности — здесь много маленького, там одно большое. Но еще в первой половине XX века единство произведения, стиля и прочего признавалось ценностью. Что касается философии, то она, начиная с Платона, фокусировалась на едином, приписывая истинность ему, а не множественному. Кант настаивал на единстве апперцепции, Гегель на единстве истории как своего рода биографии «мирового духа», и так далее. Гегель описывает космическую, вселенскую машину единства; сквозь историю, природу, сквозь душу человеческую разворачивается всемирный разум, целое, которое больше суммы своих частей. Гегель учитывает, что есть множественность феноменов, что вообще реальность очень сложна. И он очень сложно объясняет, как дух сам себя узнает и самореализуется через разные частности. Но в целом, конечно, ценностный акцент он ставит на единство. Как и в других попытках построить единую теорию, описывающую мир, чтобы дать людям, так сказать, универсальное мерило истины.
Чем глубже в XX век, тем больше эти амбиции пробуксовывают. Хайдеггер разрушал метафизические конструкции предшественников, Франкфуртская школа пыталась синтезировать марксизм и фрейдизм, французская послевоенная философия открыто берет курс на множественное. И в 1970‑е годы в разных частях мира возникает понимание того, что универсальная и внутренне непротиворечивая теория культуры, искусства (да и всего остального, вплоть до космологии) работать не будет.
Так развиваются дискурсы, способы теоретического видения, имеющие принципиально новую структуру. Я уже упоминал постгуманизм, но вот еще два, намного более явно выраженных направления — феминизм и постколониальный дискурс. Они с самого начала были ориентированы на ценность разнообразного, отличного от нормы, маргинализованного. Ведь философские системы конструировались человеком белой расы и мужского пола «под себя», и критикуя некоторые из своих предрассудков и привычек, он приписывал статус аксиом другим. Видение мира, которое могли бы иметь подчиненные группы, такие как женщины и колонизованные народы, считалось по определению не представляющим серьезного интереса.
Современный художественный дискурс во многом основан на феминизме и постколониальных исследованиях, их проблематика, понятийная оптика, структура являются образцовыми. В свою очередь, эти теории используют логику двойственности, а то и принципиальной множественности, они нацелены на исследование отношений и связей, а не на неизменных сущностей; биполярность и многополярность вместо однополярного мира суверенного и одинокого классического разума. Под их влиянием в искусстве развивается оптика, основанная на «демократии опыта», когда ценность переживаний не определяется иерархически, и люди, о которых рассказывает работа, являются не безголосыми объектами, исполняющими назначенные художником роли, а равноправными с автором субъектами с собственными голосами.
Как теория и как практика феминизм возник и развился в борьбе, противостояние ему, может быть, и не было таким открыто жестоким, как подчинение колоний, зато еще более глубоким и многоуровневым. Тысячи лет патриархальной (основанной на господстве фигуры отца) цивилизации не прошли бесследно: в 1950‑е феминизм обвиняли в «мужененавистничестве», высмеивали. Как социальное движение феминизм сначала был направлен на решение практических проблем, таких как освобождение от роли домохозяйки, которая была уготована женщинам обществом эпохи фордизма. К освобождению подводил и технический прогресс — в 1950‑е у домохозяек появилось невероятное количество свободного времени. Тут же появилась целая индустрия всевозможных курсов — от кройки и шитья до всего, чего угодно. Американцы первыми почувствовали этот вкус общего интеллекта, более демократических (хотя и более фрагментарных) форм образования: не только для того, чтобы стать профессионалом, и не только для адаптации к быстро меняющейся технологической реальности, а еще и от скуки. Скука — страшный бич фордистского общества, достаточно почитать художественную литературу того времени. Борьба со скукой, может быть и неосознанная, и привела к фундаментальным изменениям, среди которых признание феминистского дискурса.
Для феминистского способа мышления характерна двухполярная структура, учитывающая позицию «другого», не ориентированная на господстве над ним. Так же и в постколониальной мысли обычно есть место более гибким стратегиям, переговорам, обсуждению позиций, возможностей, сотрудничеству и всевозможным горизонтальным взаимодействиям. Начиная с 1990‑х и особенно в нашем веке эти «слабые дискурсы» оказывают влияние на язык теории искусства, философии и других дисциплин даже на уровне стиля. Сто лет назад «опровергали» и «разоблачали», сегодня скорее «обсуждаются границы». Понятно, что такая среда не совместима с модернистскими сверхзадачами построить универсальную теорию или переустроить мир к лучшему. Ведь нужно учитывать столько местных специфик, столько точек зрения, что уже невозможно, как хотел Ле Корбюзье, разом все снести и построить сияющий планетарный город. Эта открытость повлияла и на политическую жизнь, по крайней мере в Европе феминизм — влиятельная сила. Другой новый «многополярный» дискурс, ставший еще более влиятельной политической силой, это экология. И в этом поле ценится гибкость мышления и отказ от ценностей борьбы и экспансии, никаких «сожжем Рафаэля», единственный разрыв — с модернистской стратегией разрыва. На примере экологического дискурса прекрасно видно, как открытость и многополярность в какой‑то момент превращаются в системное мышление, в котором критический взгляд уже не требуется. Некогда революционные, сегодня эти «многополярные» дискурсы инкорпорированы в научные и политические системы.
Говоря о влиянии феминистского дискурса на исследование искусства и культуры, приведем в качестве примера статью Лоры Малви «Визуальное удовольствие и нарративное кино» (1976), посвященную образной структуре голливудских мелодрам 1940–1950‑х годов. Автор анализирует кинообразы как идеологические конструкты, транслирующие традиционные патриархальные структуры власти. Она показывает, что носителем взгляда всегда является мужчина, он — субъект, двигающий действие, женщина обычно лишь пассивный объект взгляда. Наиболее изощренный тип подчинения — через фетишизацию образа женщины, представление ее как прекрасной и загадочной, но в то же время беспомощной и пассивной. Если в тексте Малви вместо слов «образ женщины» подставлять «автономное произведение искусства», то получится очень точная и глубокая критика модернизма.
В 1970‑е годы возникают различные направления феминистского искусства. Линда Бенглис (перформанс и скульптура), Ханна Уилки, Кароли Шниман (перформанс) подрывали стандарты восприятия тела. Вали Экспорт прогуливалась по улице вместе с Петером Вайбелем, ныне известным теоретиком и куратором: она вела Вайбеля на поводке, он двигался на четвереньках, хотя был в костюме. Так переворачивались гендерные стереотипы.
Марта Рослер. Семиотика кухни. 1975 год.
И феминизм, и постколониальная теория исследуют в первую очередь различия, а не тождества. И любые различия — культурные, гендерные и т. д. — оказываются конструкциями, хотя в массмедиа или господствующих идеологиях они подаются как естественные. И теория, и искусство разрабатывают методы анализа репрезентаций и критики идеологий, основная интуиция состоит в том, что изображение или представление чего‑либо, то есть репрезентация, включает и инструкцию по ее пониманию. Часто нужно знать контекст, данный в самом образе лишь косвенно, через, допустим, отсылку к какому‑то стилю. Как раз в рамках феминистской критики, например, в работах Марты Рослер, таких как видео Семиотика кухни (1975), раскрывается эта незримая власть контекста. «Почему нужно понимать эту картинку именно так? Что изменится, если понимать ее по‑другому?» И ключевой вопрос, по Лакану: «Кто говорит?» — то есть говорит с каких позиций, исходя из каких представлений. Ведь в каждой точке, откуда можно сделать высказывание, есть наборы культурных масок, ролей или образов, в которых говорящие выражают себя. Вообще культура постоянно производит субъективности, разнообразные способы отношения к миру, которые затем достраивают себя, выбирая точки зрения из доступных репертуаров.
Феминистская проблематика проявляется, хотя и менее явно, в работе Луиз Буржуа. Она человек-эпоха, работала больше 50 лет, начинала еще во времена сюрреалистов. Ее произведения связаны с модернистской скульптурной традицией, она очень тонко чувствует пластику. Драма отношений единого и многих у нее раскрывается в превращениях скульптуры в инсталляцию и в психоаналитическом взгляде на вещи, на быт, на жизнь семьи, на ценности так называемой буржуазной культуры. Точность наблюдения и поэтичность смешиваются, есть монументальные «хиты», например «Мать» (огромный металлический паук), а есть и более эфемерные — комнаты-клетки, в которых зритель оказывается в роли подглядывающего за бытом невидимых персонажей.
В конце прошлого века появляется одна из самых интересных художников нашего времени — Мона Хатум. Ее работы — пример постконцептуального подхода, когда пластические, формальные изыски происходят из неожиданно увиденных социальных контекстов, из поэзии, которая выражается в материалах и повседневных вещах. И есть в этом что‑то запредельное, тревожное; искусство как размышление о свободе и подчинении, на первый взгляд сдержанное, но в нем всегда есть и интересные визуальные метафоры.
Начиная с 1990‑х чуть ли не бóльшая часть новых имен в искусстве — женщины. Это новое для истории искусства. Они выступают и в скандальных ролях, которые раньше были доступны лишь мужчинам. В этом амплуа добилась известности, в частности, Трейси Эмин, принадлежавшая кругу «молодых британских художников», YBA. Ядро ее практики — ее образ в массмедиа, стереотип «селебрити» в таблоидах, популярных ток-шоу. В этом есть подвижничество, инсценировка известного авангардистского сценария слияния искусства и жизни: и то и другое приносится в жертву «обществу спектакля». Типичное для 1990‑х страдание от конфликта свободы и массовых ожиданий.
В постколониальном дискурсе, как и в феминизме, ценностью признаются различия, внимание переносится на них, а не на тождества. Речь идет о реальности, в которой есть больше, чем один правильный взгляд на мир. Ключевой фигурой становится не субъект, а «другой». И задача не просто показать, что различия существуют, но утвердить их ценность, чтобы они стали активно работать в культуре. При этом обычно стремятся не к сакрализации или фетишизации различий, а показывают, как они конструируются в истории, с помощью политической и культурной власти. То есть речь идет об исследовании культурной оптики: какие смыслы, как и в каких условиях видят те или иные наблюдатели.
Сегодня на Западе постколониальные исследования тоже стали частью университетской нормы, индустрии знания, уже прошедшей через много уровней критики. Сама идея возникла в начале 1950‑х, и в академической среде ее поначалу отвергли. Это было время окончательного распада колониальной микросистемы, в восстаниях и войнах исчезали остатки главных мировых империй Нового времени, британской и французской. Наступала эпоха, для которой слово «освобождение» значило даже больше, чем для начала нашего времени слово «традиция». Одним из первых исследовать влияние колониальных стереотипов на социальную психологию колонизированных начал французский психолог и философ с креольским бэкграундом Франц Фанон, при этом он активно поддерживал борьбу Алжира за освобождение. Кстати, в фильме «Битва за Алжир» (1966, режиссер Джилло Понтекорво) в квазидокументальном ключе показаны эскалация жестокости со стороны колониальных властей и вся безнадежность ситуации. При этом французские кварталы города выглядят вначале как рай на земле; а за ними, залитыми светом, — лабиринты традиционного алжирского города. После освобождения, правда, Алжиру не везло: три десятилетия гражданских войн и диктатур. До этого колонизаторы в соответствии с идеалами Французской революции выдавали населению паспорта общего образца, и хотя на практике перед алжирцами все двери закрывали, но формально они были такими же гражданами. История отношений колонизированных и колонизаторов — это огромный пласт культурных и социальных явлений, в основном игнорировавшихся западным разумом, а ведь они во многом сформировали и его тоже. На эту тему есть книга Эдуарда Саида «Культура и империализм», где через историю западной литературы показано, как культурная идентичность Запада формировалась властью над колониями, например, воспетое английскими писателями вроде Джейн Остин ощущение домашнего уюта выстраивалось из известий о росте прибылей от предприятий в колониях.
Сегодня существует огромное число художественных практик, связанных с постколониальными проблемами. Яркие и очень разные примеры: инсталляции Кары Уокер или Рене Грин, Дэвида Хэммонса или живопись Криса Офили, фильмы Айзека Джулиана и так далее. В 2002 году одна из самых авторитетных больших периодических выставок, «Документа», предприняла попытку суммировать и описать разнообразие постколониальных проблем и практик. Ее куратором был Оквуи Энвейзор, ныне директор Художественного института Сан-Франциско и один из наиболее активных кураторов. Эта выставка самой своей структурой фиксировала ситуацию конца евроцентристских моделей мира и перехода к множественности «региональных онтологий».

Постколониализм — это тоже двусторонний дискурс, и поэтому всегда важно, кто говорит и что этим достигается. В пределе такая оптика показывает, что любое явление в культуре можно рассматривать как речевой акт. А что делает речевой акт? Фиксирует позицию говорящего, через нее приводит в действие язык, устанавливает протокол отношений с адресатом и определяет локальное время для данной ситуации, ее «сейчас», «потом» и т. д. Не монолог в вечности, субъект над объектом, как привык западный разум, а диалог, в котором минимум два субъекта. Например, колонизованный может говорить через визуальную культуру, революционную пропаганду, он (или она) по определению не автономен, в его мире многое зависит от отношений с колониальной властью, а кроме того, с собственной традицией, это пограничный мир, выпавший из состояния традиционного равновесия. Да и у колонизатора сложное отношение с собственной властью, он может быть и не тираном, может, он случайно там оказался. И возникает целая сеть оптических явлений: кто кого как представляет. А представления — это как раз то, что заставляет действовать. Характерные для постколониальной мысли способы рассуждения не подразумевают такой позиции, с которой мудрец-автор мог бы спокойно всем объяснить мир, изложить истину, это позволяет развивать новые типы повествовательных логик и обогащает арсенал методов искусства.
Еще один интеллектуальный бестселлер — книга Эдварда Саида «Ориентализм», вышедшая в 1977 году. Это глубокое исследование способов, которыми западная культура в
Важное понятие, вокруг которого выстраиваются постколониальные исследования, это понятие идентичности. В самом общем виде идентичность — это равенство объекта самому себе. А идентично А. Но как быть с идентичностью субъектов? Идентичность — это то, что в моем представлении отличает меня от другого. Это то, что я есть, но что я такое объективно — как узнать? Поэтому идентичность — это все‑таки представления, образы. И она не требует постоянства, как идентичность предметов. Монолитная тавтологическая идентичность «Я это Я» может быть только у сверхчеловеческих сущностей. Культурная идентичность — это всегда конструкция, соединяющая глобальное и локальное, традиционное и современное. В 1990‑е годы искусство часто обращалось к этой теме, в частности Рене Грин, Ширин Нишат, Орлан и многие другие. Идентичность — это, с одной стороны, образ, определяемый тем, что кто и как может и хочет видеть; с другой стороны, это продукт дискурса, того, что принято говорить и понимать. Те смыслы, которые ее образуют, часто взаимно противоречивы, ведь дело происходит в истории, в поле действия множества сил. Идентичность — это больше нефиксированное место в упорядоченном мире, она всегда в движении, подвержена влияниям, изменениям. Один из инструментов идеологического управления идентичностями — это клише, например, то, что называется «корпоративное мы». Оно говорит и во фразах вроде «мы сегодня больше знаем о космосе, чем о глубинах океана» или «мы строим коммунизм» и в любых других случаях, когда говорящий подспудно объединяет свою позицию и адресата. Любое «мы» всегда сфабриковано с какой‑то целью, другой вопрос, как оно действует? В каких‑то критических условиях это вопрос выживания, но когда говорят «все мы…», в этом есть что‑то мобилизующее, намек на чрезвычайную ситуацию.
Значительное влияние на художественный дискурс 1990–2000‑х годов оказала теория гибридной идентичности, разработанная гарвардско-бомбейским исследователем Хоми Баба. Основываясь и на
В наше время образцом передовой науки все чаще выступает биология, а не физика (как было в индустриальную эпоху). Фундаментом биологии, по крайней мере сегодня, является генетическая теория. Гены, эти наборы нуклеотидных цепочек, определяют все разнообразие форм жизни. Любая жизнь возникает из генетических комбинаций, то есть как гибрид. Если такова парадигма современного знания, то в исследованиях культуры, в антропологии наделять ценностью некие «чистые» сущности оказывается еще сложнее. В модернистские времена, напротив, биология часто была связана ложными идеалами чистоты. Искусство модернизма тоже развивалось по логике очищения от не необходимого. Вспомним, к примеру, о культе чистоты медиума в теории Клемента Гринберга. В модернистском мировосприятии смешения и гибриды считались ошибками, подлежащими исправлению. У Хоми Бабы гибриды и чистые сущности меняются местами. Ведь наш мир порожден глобализацией, постоянным общением, связями, обменами, и чистота, то есть отсутствие связей, предстает как упущение. В таком мире явления возникают на границах смысловых полей, из творческих непониманий, переиспользований, ошибочных прочтений.
Делез и Гваттари некогда придумали термин, сложно произносимый, но очень продуктивный: детерриториализация, процесс, связанный со становлением кочевником, с переходами между контекстами. Эти философы описывают всю историю как множество переходов, расставаний с местом, утрату власти места в практиках и концепциях. Это отказ от традиции, но и возможность ее переизобретения. История искусства состоит из детерриториализаций, что становится особенно заметно начиная с XIX века, когда новые направления возникают из разрывов, о чем часто говорят и сами их названия: «салон отверженных», сецессион, передвижники и так далее. Вместе с тем детерриториализация — это и замещение ручного труда машинным, возникновение абстрактного труда по Марксу. Более того, создание образов, концепций и текстов тоже связано со смещением, детерриториализацией.
Информационное общество все больше ориентируется на ментальные схемы, характерные для охотников-собирателей, мыслящих ситуациями, а не понятиями; это реальность, построенная техникой, придающей фундаментальную ценность различиям. Понятия детерриториализации, гибридной идентичности, многие другие концепции второй половины XX века вдохновлены этим поворотом. Где его корни или эпицентр, в какой области социальной или культурной реальности? Их нет, поскольку история меняет общества и людей изнутри. Задумаемся об определении информации по Грегори Бейтсону: информация — это различие, порождающее другое различие. В этой перспективе все стабильные сущности предстают следствиями переходов и смещений. Субъект оказывается эффектом проходящих через него дискурсов, как в постструктурализме.

Развитие теории начиная с 1960‑х годов происходит одновременно с развитием неоавангарда, или «второго авангарда». Концептуальный поворот к эстетике идей позволил искусству конца прошлого века расширить свой арсенал, наносить все новые области на карту художественной культуры. И теория, и практика стали средствами для осмысления реалий информационного общества, основанного на массовом потреблении как материальных, так и нематериальных товаров. Первые проблески этой реальности имели место еще в 1920‑е годы, когда начали применяться новые стратегии маркетинга для стимуляции потребления. Они изменили общество, сначала в Америке, а после Второй мировой войны в Европе и далее везде. Идеологи и конструкторы этой потребительской цивилизации — Эдвард Бернейс, Дейл Карнеги и отчасти Генри Форд; для современного капитализма они являются тем же, чем отцы церкви в католической, например, традиции. Они как маркетологи первыми поняли значение различия, фанатично поверили в его спасительную силу. Ведь в перспективе маркетинга важно, не что у тебя как возможного потребителя уже есть, а то, что тебе может понадобиться или захотеться. Поэтому для маркетолога важно учитывать как можно больше различий, чувствовать минимальные колебания спроса. Здесь смыкаются и даже срастаются техника и психические системы людей, машины производят все больше, и потребители учатся хотеть все больше частных, непонятных вне контекста вещей. Эпоха различий (или триумфа маркетологии) преодолела и перевернула с ног на голову картину мира, построенную западным мышлением в Новое время, всю европейскую философию суверенного разума, единых и постоянных сущностей, замкнутости и защитных реакций. Оказалось, что жесткие структуры власти были эффектами бедности, что при наличии возможностей в людях пробуждается желание, которое можно неограниченно насыщать новыми объектами.
В искусстве 1970‑е годы были эпохой экспериментов, «расширенного поля», когда развивались и политический активизм, и
Я не буду сейчас говорить об искусстве того периода, о трансавангарде, симуляционизме и так далее. Лишь обращу внимание на самые яркие реакции на этот новый мир дегуманизированного процветания, тоталитаризма супермаркетов. Я имею в виду работы Барбары Крюгер, сочетающие в себе эстетику русского конструктивизма с новыми (на тот момент) технологиями и иронической критикой пороков потребительского сознания, вообще этой обращающей все в камень силы потребляющего взгляда. А также Дженни Хольцер, представительницу социально ангажированного искусства того времени, с ее узнаваемыми электронными табло, которые вывешивались на улицах с надписями вроде «Защити меня от того, что я хочу». Эти художники, хотя и далеко не только они, в полной мере использовали возможности мультимедийного подхода. Под «мультимедийностью», как мы уже знаем, понимается не столько зависимость от технических новинок, сколько создание ситуации, в которой смысл транслируется по множеству каналов.
Статья Стаса Шурипы опубликована в книге «Труды ИПСИ. Том I. Избранные лекции по современному искусству и философии».